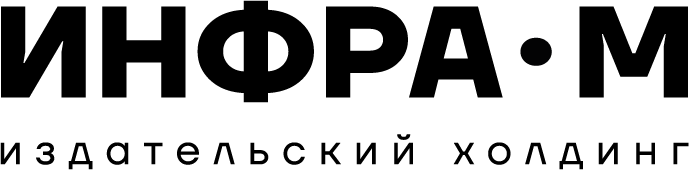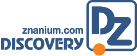Moskva, Moscow, Russian Federation
The article is dedicated to one of the first domestic macarenkologists - Margarita Dmitrievna Vinogradova. For the first time, the pages of the letters of the former communard I.I. Yatsenko, as well as fragments from the memoirs of M.D. Vineyard. The characteristics of A.S. Makarenko, his comrades-in-arms and students are given. The article was prepared within the framework of the state task of the Institute for the Development Strategy of Education of the Russian Academy of Education for 2017-2019. (No. 27.8089.2017 / BC) "Realization of the potential of historical and pedagogical research in modern pedagogical education".
personality of a scientist, professionalism, pedagogical skill, education of a citizen of the fatherland.
П о с в я щ а е т с я
130-летию со дня рождения
А.С. Макаренко (1888–1939)
В архивном фонде Научно-мемориального центра деятелей педагогики им. М.Н. Скаткина ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» хранятся ценнейшие документы научно-педагогической деятельности выдающихся отечественных ученых-педагогов, а также архивные материалы, раскрывающие историю создания Педагогических сочинений А.С. Макаренко в 8 томах (1983–1896 гг.), в числе составителей которого была канд. пед. наук М.Д. Виноградова. Из фрагментов воспоминаний Маргариты Дмитриевны читатель узнает о том, как готовилось к изданию первое Собрание сочинений А.С. Макаренко в 7-ми томах. М.Д. Виноградова стояла у истоков отечественного макаренковедения, была бессменным руководителем серии «Неизвестный Макаренко». Воспоминания Маргариты Дмитриевны об ученых, о соратниках и воспитанниках А.С. Макаренко впервые малым тиражом были опубликованы в 2009 г. в 19-ом выпуске серии «Неизвестный Макаренко». В данной статье читатель познакомится с несколькими фрагменты этих малоизвестных широкому кругу читателей воспоминаний.
*
Мое знакомство с Маргаритой Дмитриевной состоялось в феврале
М.Д. Виноградова была в числе составителей и авторов комментариев ко второму, четвертому, шестому и восьмому томах Педагогических сочинений А.С. Макаренко. В числе составителей и авторов комментариев первого, третьего, пятого и седьмого томов был Л.Ю. Гордин, а всех 8-ми томов – А.А. Фролов. Редакционную коллегию возглавляли М.И. Кондаков (главный редактор), В.М. Коротов, С.В. Михалков, В.С. Хелемендик. Рецензентами выступали В.А. Фрадкин, Н.Д. Ярамченко и Эдгар Гюнтер (ГДР). Сверка текстов по архивным источникам ко всем томам лежала на «плечах» моих и моего юного – в те годы – коллеги И.В. Филина.
Очень часто мы встречались с М.Д. Виноградовой у неё и у меня дома. Наша крепкая творческая и человеческая дружба продолжалась до кончины этого удивительного человека. Сохранилась переписка Маргариты Дмитриевны с одним из талантливейших воспитанников А.С. Макаренко – с Иваном Игнатьевичем Яценко. Отмечу, что сохранилась и моя переписка с И.И. Яценко. В письмах к Ивану Игнатьевичу мы задавали Ивану Игнатьевичу вопросы о Макаренко, о педагогах и воспитанниках; и он нам отвечал очень подробно. Ко мне скоро стали приходить письма не просто на листочках, а в ученических тетрадках. Возможно, в скором будущем письма И.И. Яценко удастся опубликовать, а в этой статье приведем лишь некоторые фрагменты. Так, отвечая на вопросы М.Д. Виноградовой о педагоге Сергее Петровиче Пушникове, Иван Игнатьевич в письмо от 10 октября 1993 г. (Ленинград.) рассказал следующую историю:
«Это был преподаватель русского языка и литературы в коммуне. Пользовался неограниченной всеобщей любовью. Был очень образованным человеком, обладал ярко выраженным актерским даром, имел ученую степень. Он еще преподавал в Харьковской академии. После войны преподавал в Полтавском педагогическом институте. Поскольку документы в войну были утрачены, он вновь защитил диссертацию. Будучи в Челябинске, я встретил выпускника ПГПИ – Гуревича Александра Самбиловича – директора детского интерната №11. Это был чудесный, умный человек. Используя педагогику А.С. Макаренко, он добился высокой организации и образцового порядка в интернате. Его воспитанники, имеющие ограничения по здоровью, добивались почти полной самоокупаемости. (…) Когда я у них был, они собирались строить конюшню и завести лошадей для обучения верховой езде… Каково?
Так вот, этот Гуревич рассказал мне, что Сергей Петрович Пушников преподавал в ПГПИ и он (Гуревич) учился у него. От него узнал о Макаренко. Гуревич утверждал (совершенно серьезно), что Сергей Петрович, до того как стать педагогом, 8 лет был актером МХАТА. Когда я был в Полтаве, выкроил время, нашел в архиве личное дело Пушникова С.П. Убедился, что он вторично защитил диссертацию, а подтверждения того, что он был актером МХАТА не нашел. Весьма возможно, что он этому факту тогда уже не придавал значения. Но то, что он был великолепным актером все коммунары знали прекрасно!»
Об удивительной личности Ивана Игнатьевича Яценко следует писать отдельно, но одну зарисовку, характеризующую его как человека одаренного, образованного и интересного, приведу. В письме к М.Д. Виноградовой от 27 октября
«Сегодня я еще успею написать (мне это очень хочется Вам написать). В больницу я брал с собой томик Алексея Константиновича Толстого. В нем "Князь Серебряный", былины, баллады, стихи… "Князя Серебряного" я прочитал не менее пяти раз (всё остальное тоже) и меня не переставало тянуть к этому произведению. Долго я не понимал, почему я так симпатизировал князю. И только в этот раз я понял. Дело в том, что по своим убеждениям мы абсолютно одинаковы. А вторая причина состоит в том, что написана эта повесть на столько просто как и блестяще!
Стихотворения, былины и баллады мне тоже очень понравились. Особенно вот это:
Одарив весьма обильно
Нашу землю, царь небесный
Быть богатою и сильной
Повелел ей повсеместно.
Но чтоб падали селенья,
Чтобы нивы пустовали -
Нам на то благословенье
Царь небесный дал едва ли!
Мы беспечны, мы ленивы,
Все у нас из рук валится,
И к тому ж мы терпеливы –
Этим нечего хвалиться.
Очень понравилась былина или баллада "Курган".
Очень понравилась переписка (точнее письма) А.К. Толстого. И особенно упоминание (письма к ней) Каролине Карловне Павловой (Яникс) – поэтессе, стих которой Белинский назвал "алмазным". Я о ней немножко читал (и немножко чудесных её стихов) уже давно… И было приятно упоминание о ней. Словом, этот томик скрасил мои "скорбные" больничные дни»[1].
Доверительная переписка И.И. Яценко с М.Д. Виноградовой (ее писем пока не обнаружено) доказывает, как близки были по своему мировосприятию эти два замечательных человека. При встречах они читали наизусть любимые стихи, спорили о литературе, об искусстве и истории. В письме от 25 октября
Причин для того, чтобы сердцу (очень здоровому, тренированному изначально) заболеть – более чем достаточно. У нас никогда не хватает времени поделиться пережитым, да как-то вышло, что и не принято это у нас… А если бы Вам рассказать… Словом:
Когда Земля стонала, как живая,
Когда от нашей крови таял лед…
И далее:
В сраженьях мы тонули и горели…
Мы не умели в полнакала тлеть.
И если это всё мы одолели,
Обязаны и старость одолеть!
Будем стараться… Но это не называется «пищать». Я бы это назвал – ЖИТЬ, не отворачиваться от её превратностей, воспринимать её такой, какая она есть. Умом я понимаю, что это отражается на здоровье, но прятаться о жизни… – это не по мне… В коммуне я работал на заводе лучше многих взрослых. Учился отлично, участвовал и в спорте, и во многих кружках самодеятельности, и в общественной работе (был командиром отряда). В училище учился отлично, служил, воевал хорошо. Перед начальством не выслушивался – вот это очень трудно, очень мне вредило! Много интересного мог бы рассказывать… И мне не стыдно за свою жизнь – не пресмыкался. Это ой как непросто!
Вот и Антон Семенович отдал свою жизнь борьбе за справедливость, за утверждение форм обучения, воспитания, организации. Прожил всего 51 год! А я скоро (на днях) доживу до 74 лет. Считаю, что живу на сверхсрочной… Так что дорого обходится оптимизм. Я Вам писал о своем девизе:
Не хочу я жить медузой,
Не желаю быть обузой.
Предпочту сгореть на деле
Смерти в тепленькой постели.
Письмо отправлю завтра или послезавтра – уже на следующей неделе»[1].
Можно привести ещё много удивительных строк из писем И.И. Яценко, но оставим их для большой книги о воспитанниках А.С. Макаренко…
В 1999 г. М.Д. Виноградова передала мне свои воспоминания, предварив их словам, что ей посчастливилось видеть в разные периоды своей жизни много людей, так или иначе связанных с А.С. Макаренко: его воспитанников, коллег по педагогической деятельности, друзей, родных, макаренковедов. Маргарита Дмитриевна не могла допустить, чтобы её воспоминания об этих людях ушли вместе с ней. В 2009 г. эти воспоминания небольшим тиражом были опубликованы в 19 выпуске «Неизвестный Макаренко». Приведем несколько фрагментов из этих воспоминаний.
Фрагмент первый: «Первое мое впечатление о Макаренко как личности и педагоге связано с юностью. Девятиклассницей в 1940–41 учебном году я прочла "Педагогическую поэму", которую полюбила, прежде всего, за уважение Антона Семеновича к людям, за доверие к ним, веру в них. Видимо, мне, как дочери любимого репрессированного отца, верившую в его невиновность и мучительно решающую сложные проблемы отношения к людям, эти уважение и вера в человека оказались большой моральной поддержкой.
Естественно, в педагогическом институте мой интерес к Макаренко ожил с новой силой, особенно под влиянием лекций Жураковского Геннадия Евгеньевича, читавшего нам курс по истории педагогики. Мы, студенты факультета языка и литературы, были очень избалованы прекрасными лекциями и семинарами крупнейших литературоведов, таких как С.М. Бонди, Л.П. Гросманн, Е.П. Тагер, Н.Н. Гусев. Перед нами в те годы выступали приезжавшие к нам Ираклий Андронников, Томашевский, Гуковский и др. И, однако, не было ни одной лекции Г.Е. Жураковского на нашем курсе, которая бы не кончалась аплодисментами, несмотря на скепсис к современной педагогике в целом.
Геннадий Евгеньевич Жураковский любил Макаренко как педагога и как личность в целом – об этом и были его лекции, хотя, конечно, он раскрывал также теоретические и методические положения Макаренко. Он читал лекции о знаменитых педагогах как о живых людях: о Песталоцци, Руссо, Пирогове, Толстом, Ушинском. Видимо, это были самые любимые его педагоги – и Макаренко в их числе. Геннадий Евгеньевич вел со студентами педагогический кружок, и я в нем была. Подготовила два доклада – об отношении Толстого к личности ребенка и об отношении Макаренко к своим воспитанникам. Помню, что над докладами этими я работала с большим увлечением, при этом много общаясь с Жураковским и испытывая его сильное личное влияние. Очень нравилось провожать Геннадия Евгеньевича после лекций домой вместе с несколькими аспирантами, слушать его рассказы о людях – педагогах, артистах, художниках, об искусстве разных времен и народов. Геннадий Евгеньевич был сам очень артистичен и ярок, а его эрудиция просто потрясала. И поэтому невозможно было работать с ним без глубокого знания текстов, без широкого чтения источников. В эти студенческие годы из произведений Макаренко было перечитано все, тогда изданное, а также многое написанное о нем, что, увы, казалось гораздо менее интересным, чем то, что написал сам Макаренко. Убеждена, что и написанное Жураковским о Макаренко (опубликованное как тогда, так и позже) является очень слабым отражением по отношению к его устным рассказам и лекциям о нем. Геннадий Евгеньевич, рассказывая, прежде всего, восхищался Макаренко – человеком и педагогом, его яркостью, талантливостью, смелостью, необычностью, как выдающейся и неповторимой личностью, а писать об этом в те годы было как-то не принято,
не считалось наукой. Уверена, что когда-нибудь в архивах Жураковского (всего вероятнее, они находятся в Ленинской библиотеке, куда Жураковский еще при жизни завещал отдать всю свою библиотеку, в том числе и по искусству) обнаружатся труды Геннадия Евгеньевича о Макаренко. Его опубликованные немногочисленные работы о Макаренко не отражают его вклада в макаренковедение, так как опубликованы были только те его статьи, которые были ближе к идеологическим проблемам (например, его статья о комсомоле у Макаренко), а его наиболее яркие и характерные для него труды опубликованы не были, так как считалось, что он, беспартийный, не о том пишет, о чем следует. Наиболее необычные и специфические для интересов самого Геннадия Евгеньевича были проблемы связи педагогической деятельности Макаренко с искусством. Предполагаю, что Жураковскому, глубокому знатоку мирового искусства в самом широком смысле (это отражала и его библиотека, одна из лучших и богатейших в Москве), особенно импонировала личность Макаренко-педагога именно из-за его необычайной одаренности по всем видам искусств: хорошо рисовал, играл на скрипке, был великолепным актером, и Геннадия Евгеньевича в личности Макаренко всегда больше всего интересовала проблема единства педагогического мастерства и искусства.
После окончания института меня пригласили в аспирантуру на кафедры: языка, русской литературы, а Геннадий Евгеньевич – на кафедру педагогики, как ее заведующий в то время.
Все наши студенты-филфаковцы поступление на кафедру педагогики считали не престижным, хотя очень уважали и любили Геннадия Евгеньевича, но без всякого уважения относились к другим представителям кафедры, особенно к Коняхину, читавшему этому курсу лекции по педагогике. Но я себе задала вопросы: 1) примут ли меня вообще по анкетным данным в аспирантуру, ведь я была даже не комсомолка, дочь репрессированного, хотя и имела диплом с отличием; 2) если заниматься Макаренко, то что мне в нем интереснее: педагогические идеи и его педагогическая деятельность или средства изображения этого в его художественных произведениях. Решила, что ответ на второй вопрос однозначен – сама педагогическая деятельность, а не художественные особенности произведений Макаренко. Значит, если заниматься в аспирантуре наследием Макаренко, а мне этого очень хотелось, то надо идти на кафедру педагогики. Чтобы ответить на первый вопрос, решила о своих анкетных данных рассказать Геннадию Евгеньевичу. Он, конечно, принял этот разговор без восторга, но в аспирантуре не отказал. Для себя надо было еще решить, поступать в очную аспирантуру или совмещать заочную с педагогической работой в ярославской школе. После окончания института летом ходила в Ярославское гороно, но мне там отказали: то ли действительно мест не было для словесников, то ли анкетные данные мои смутили, то ли я, маленькая и не эффектная, не понравилась. Так определилось мое окончательное решение поступать в очную аспирантуру на кафедру педагогики и заниматься наследием Макаренко.
Поступив в аспирантуру, пыталась с помощью Геннадия Евгеньевича, ставшего официально моим научным руководителем, определить тему диссертации. К этому времени мной была прочитана почти вся опубликованная литература о Макаренко, так что мне не так уже трудно было ориентироваться в том, что уже изучено, а что почти нет. Конечно, мне ближе всего была бы та тема, которой я занималась в педагогическом кружке: приблизительно о влиянии личности Макаренко на личность его воспитанников, но в те годы все считали, такая тема диссертации не могла быть утверждена.
При ознакомлении с литературой мое несогласие, даже возмущение, вызвала статья Шимбирева «Ценное и ошибочное у Макаренко» («Учительская газета», 1940, № 88, 2 июля), в которой утверждалось, что Макаренко недооценивал школу и знания. Я считала это просто абсурдом, и мне хотелось доказать правду, как я ее себе представляла. Я предложила Геннадию Евгеньевичу взять такую тему для диссертации. Сомнение у него вызвало то, хватит ли материала, но он согласился рискнуть, и мы рискнули, утвердили такую тему. Я начала над ней увлеченно работать, собирать материал, в том числе в архивах.
Но, к моему несчастью, Геннадий Евгеньевич Жураковский был моим научным руководителем только один год, а затем его обвинили в космополитизме, сняли с работы, лишили права вести аспирантов. Как это ни парадоксально, его приютил на своей кафедре в Областном Педагогическом Институте имени Н.К.Крупской тот самый Шимбирев, которого я не любила за его серый учебник по педагогике и за плохое отношение к Макаренко. Не могу сказать, что я полностью изменила свое мнение о Шимбиреве за смелый поступок с Геннадием Евгеньевичем (а тогда взять на работу обвиненного в космополитизме – это был мужественный шаг), но все-таки после этого я несколько поубавила пыл в своем возмущении Шимбировым.
Моим научным руководителем (против моей воли) сделали Константина Ивановича Львова, который в первом же разговоре мне заявил, что надо менять тему. А. М. Шайкин пошел у Львова на поводу и после длительного сопротивления тему изменил, а я категорически отказалась. К.И. Львов уступил, но сказал, что придется мне работать самостоятельно, так как он наследия Макаренко не знает, читал только его «Педагогическую поэму» и помогать мне сможет только самыми общими советами. Так и согласились взаимно, и я опять начала активно работать над собиранием материала по своей проблеме.
По непонятным тогда для меня причинам К.И. Львов запретил мне, причем совершенно категорически, в любом виде всякие контакты с лабораторией по изучению и применению наследия А.С. Макаренко, которая тогда существовала при АПН РСФСР и которую возглавляла Галина Стахиевна Макаренко. Только теперь, прочитав статью в «Народном образовании» о разногласиях Г.С. Макаренко и И.Ф. Козлова, я поняла, что К.И. Львов свой категорический запрет моего общения с такими тогда нужными мне людьми сделал под влиянием И.Ф. Козлова, но в те годы он мне этого не сказал, просто запретил – и все, сказав, что мой материал могут использовать, чуть ни украсть, что я должна, обязана делать все сама и только сама.
Меня уже в те годы предельно удивляло, что все исследователи А.С. Макаренко в равной степени нападали как на противников Макаренко (что естественным мне казалось), так и друг на друга, обвиняя каждый всех других, изучающих Макаренко, чуть ни в его фальсификации, во всяком случае, в его неверном понимании. Это не перестает меня удивлять и сейчас, а в те годы я остро переживала такую полную разобщенность макаренковедов, их яростные обвинения друг против друга и поэтому решила, что в чем-то Львов прав, запрещая мне с ними общаться. Стала работать над диссертацией сама, без консультации, без общения со знающими Макаренко специалистами-исследователями.
Но общаться с воспитанниками и соратниками Макаренко мне Львов не запрещал, и естественно, я решила попробовать собирать нужный мне материал у них. Так возникло мое общение с людьми, лично знавшими Макаренко, работавшими с ним или воспитанными им» [2, с.4–7].
Фрагмент второй: «Теперь несколько слов о защите моей кандидатской диссертации и о том, как я попала работать в лабораторию по изучению и применению педагогического наследия А.С. Макаренко Института теории и истории педагогики АПН РСФСР.
Диссертацию я закончила вовремя, в срок. Где-то в начале октября мой научный руководитель, заведующий кафедрой педагогики К.И. Львов доложил на очередном заседании кафедры, что его аспирантка закончила и представила диссертацию к следующему заседанию кафедры Э.С. Кузнецовой. Это было в субботу, а в понедельник я узнала, что в воскресенье К.И. Львов неожиданно умер: стал принимать ванну после возвращения с дачи, дома был один, и его сын, студент мединститута, вернувшись вечером домой, застал отца мертвым в ванне.
На кафедре долго не было ни заведующего, ни заседаний. Где-то уже зимой, наконец, мою диссертацию обсудили. Обсуждение прошло спокойно, доброжелательно. Мне очень помогали подготовиться и к обсуждению на кафедре, и к защите не Ученом Совете члены кафедры: Э.С. Кузнецова, И.Ф. Козлов – первый, кто когда-то защищал кандидатскую диссертацию об А.С. Макаренко и на нашей кафедре считался главным специалистом по наследию Макаренко. Это он когда-то перед моей командировкой в Харьков посоветовал мне обязательно разыскать Е.Ф. Григорович и был очень доволен, что мне удалось это сделать.
Оппонентами моими по рекомендации кафедры были: проф. А.Н. Волковский и заведующий сектором коммунистического воспитания Института теории и истории педагогики АПН РСФСР <…> А.Г. Тер-Гевондян.
Отзывы оппонентов были очень положительные, замечаний было мало.
Ученый Совет начался 29 мая 1951 года спокойно, и я благополучно произнесла свое вступительное слово, ответила на вопросы и замечания оппонентов, выступающих очень ярко и убедительно в мою защиту.
И вдруг случилось непредвиденное – среди выступавших по диссертации вышел на кафедру В.Е. Гмурман, сотрудник лаборатории по изучению и применению педагогического наследия А.С. Макаренко, работы которого я знала, но с которым по настоянию К.И. Львова и И.Ф. Козлова даже не была знакома, ни разу его не видела до моей защиты.
В.Е. Гмурман о диссертации моей отозвался очень положительно, на мой взгляд, даже несколько преувеличил ее достоинство. Выступление В.Е. Гмурмана подействовало на И.Ф. Козлова, как красная тряпка на быка, и между ними началась резкая дискуссия вообще об А.С. Макаренко: они так яростно спорили часа два, что совершенно забыли про меня, даже не упоминали. Для результатов моей защиты это было очень опасным, учитывая особенности Ученого Совета, на котором я защищалась: он состоял не только из представителей кафедры педагогике, но также в него входили члены кафедр научного коммунизма, истории партии, политэкономии. Это все были люди, настроенные политически очень обостренно, как защитники против любых оттенков нарушения партийных догм и постановлений, а год был трудный – 1951, апрель.
Самым опасным было то, что И.Ф. Козлов стал противопоставлять взгляды А.С. Макаренко и советской педагогики, полемически утверждая, что только идеи А.С. Макаренко и есть советская педагогика, а все остальное – не настоящее. Признаться, видя лица тех преподавателей марксизма-ленинизма, которые нам читали лекции, я очень испугалась, зная их умение видеть всюду антипартийность и врагов народа. Видимо, некоторую опасность почувствовал и председатель Ученого Совета, специалист по политэкономии, некто Абросимов, так как он прервал И.Ф. Козлова, призвав его быть ближе к защищаемой диссертации. Козлов убеждал с кафедры, крикнув: «Занесите в стенограмму, что мне не дают говорить!» Абросимов в ответ сказал: «Занесите в стенограмму, что товарищ Козлов демонстративно покинул кафедру!» Тогда И.Ф. Козлов вернулся опять на кафедру, и продолжал спорить с В.Е. Гмурманом по общим вопросам соотношения идей А.С. Макаренко и советской педагогики. Тогда мне казалось, что к моей диссертации это никакого отношения не имеет, но теперь я понимаю, что любая работа об А.С. Макаренко исходит из каких-то общих подходов ко всему его наследию, чему бы конкретно она ни была посвящена.
Я не стала отвечать на эту полемику и вообще на выступления других людей по моей защите, очень невразумительно и взволнованно произнеся в своем заключении общие благодарственные слова в адрес Института и кафедры. Защита продолжалась около трех часов, результаты были приблизительно такие: 2 против, 1 воздержался, остальные «за» (членов Ученого Совета было очень много).
Тогда я себя в конце защиты воспринимала, да и сейчас оцениваю также свое состояние, возможное впечатление от меня не как от сложившегося ученого, достойного степени кандидата педагогических наук, а как жалобного недорезанного цыпленка. Но эффект оказался прямо противоположным моим ощущениям: меня сразу же захотели иметь своим научным сотрудником и А.Г. Тер-Гевондян и В.Е. Гмурман.
Во всяком случае, после дня защиты, 29 апреля, прошло всего три дня, а когда я 3 мая, в первый же рабочий день, не минутку зашла повидаться с друзьями перед тем, как с мамой и приехавшей из Ленинграда на мою защиту подругой Риммой идти в Третьяковскую галерею, мне М.И. Кондаков сообщил, что меня ищет директор НИИ теории и истории педагогики АПН РСФСР Петров, т.к. хочет взять меня к себе на работу, что он, М.И. Кондаков, обещал к нему меня доставить, и мы немедленно должны ехать.
Н.А. Петров предложил мне на выбор два места младшего научного сотрудника: К Тер-Гевондяну в сектор коммунистического воспитания и в лабораторию по изучению и применению педагогического наследия А.С. Макаренко. Хотя Антон Георгиевич мне очень нравился и как ученый, и как человек, естественно, я выбрала лабораторию А.С. Макаренко, работа в которой представлялась мне несбыточным счастьем, светом в окошке, о котором я никогда не смела и мечтать.
*
На следующий день, 4 мая 1951 года, я явилась в НИИ оформляться на работу и предстала уже перед В.Е. Гмурманом как младший научный сотрудник лаборатории. Сначала я знакомилась со своими будущими коллегами по работе. Мы уже лично впервые поговорили с В.Е. Гмурманом. Он мне рассказал, что в данное время основная задача лаборатории – издание первого семитомного собрания сочинений А.С. Макаренко. В момент моего выхода на работу шла сверка четвертого тома, к чему я и должна была сразу, в тот же день, приступить.
Но предварительно В.Е. Гмурман познакомил меня еще с двумя сотрудниками лаборатории: Марией Евгеньевной Луппол и Екатериной Григорьевной Альтшулер. Первое впечатление от них, как мне кажется, оказалось верным.
М.Е. Луппол была женщиной лет 50–55, худой, бледной, по моему восприятию, некрасивой, с очень неприятными скрипучим голосом, высоко поднятой головой и несколько надменной манерой поведения. Позже я поняла, что такая манера держаться – это что-то вроде ее защитной реакции, так как она была бывшей женой директора Института мировой литературы, доктора филологических наук Луппола, репрессированного и расстрелянного как врага народа. М.Е. Луппол, будучи младшим научным сотрудником без степени, чувствовала себя в Институте теории и истории педагогики инородным телом, бывала там по возможности редко, мало с кем общалась, держалась особняком, отсюда и несколько искусственная поза независимости, на самом деле прикрывающая ее незащищенность и неуверенность. Знаю, что М.Е. Луппол была лично знакома с А.С. Макаренко. Чем фактически занималась М.Е. Луппол в лаборатории, я так никогда и не поняла, знаю, что выполняла поручения Г.С. Макаренко и помогала ей с работой над домашним архивом – рукописями А.С. Макаренко и письмами.
Е.Г. Альтшулер сразу мне очень понравилась. Это была маленькая седая старая горбатая женщина, все лицо которой светилось приветливостью и добротой. С первого слова мы стали с ней не только сотрудниками, но и друзьями. В дальнейшем я узнала, что Е.Г. Альтшулер была родной сестрой И.Г. Лежнева, когда-то известного критика, печатавшегося в «Правде», а потом оказавшегося не в чести. Он занимался деятельностью Шолохова, тот у него бывал, когда приезжал в Москву. Женой И.Г. Лежнева была литературная переводчица с немецкого, много в те годы издаваемая – Лидия Павловна, очень общительная, говорливая, «в доску своя» среди всех писательских жен и потому всегда знавшая все самые последние литературные новости. Е.Г. Альтшулер долго жила в США, а вернувшись, поселилась в семье брата в том же подъезде, где когда-то жил А.С. Макаренко. Вся семья Е.Г. Альтшулер хорошо знала Антона Семеновича, когда-то тесно с ним общалась. Тогда я стеснялась расспрашивать об этом общении (годы были не те), а теперь очень жалею об этом, т.к. от них, особенно от Лидии Павловны, можно было много узнать о литературном окружении А.С. Макаренко.
Считаю, что Е.Г. Альтшулер очень много сделала для издания сочинений А.С. Макаренко и ее труд до сих пор несправедливо забыт, мало оценен. Официально значится, что она в семитомнике составляла Предметный указатель, но фактически при ее непосредственном и кропотливом участии делался весь справочный материал к семитомнику. Это была настоящая труженица. Вместе с ней нам предстояло сделать всю техническую работу по сверке текста А.С. Макаренко с его рукописями. В институте в первый день моей работы мы сверяли четвертый том, верстку уже, по расклейке тех работ А.С. Макаренко, которые были уже напечатаны до семитомника.
А рукописи Антона Семеновича Макаренко находились в то время почти все дома у Галины Стахиевны, и считка по ним проходила всегда только у нее или в квартире, где жила Екатерина Григорьевна, только туда разрешала Галина Стахиевна выносить из своего дома рукописи Антона Семеновича. Поэтому в основном мне предстояло работать в Доме писателей в Лаврушинском переулке, а в институте бывать только 2 раза в неделю, в обязательные для присутствия всех сотрудников дни.
Поэтому на второй день своей работы я должна была явиться на Лаврушинский в квартирку, где жила Екатерина Григорьевна. Работали мы, как правило, с 10 часов утра (такой был график работы в институте), а кончали обычно позже положенного, так как сдачу томов нельзя было задерживать.
Итак, я пришла к Екатерине Григорьевне и туда же пришел В.Е. Гмурман. Мы начали сверку 4-ого тома уже по рукописи. Позже, днем, нас позвала к себе Галина Стахиевна. Это было 5 мая 1951 года – первое мое знакомство с ней. Я очень волновалась, войдя в квартиру Антона Семеновича. Галина Стахиевна, встретив нас, сразу провела в его кабинет. В этом кабинете, как сразу же сказала Галина Стахиевна, все бережно сохранилось так, как было при Антоне Семеновиче. Фактически, это была единственная мемориальная комната в его трехкомнатной квартире, так как две другие комнаты и кухню обставляли дополнительно уже после его смерти, видимо, по мере роста материальных возможностей. Не знаю, имеется ли где-то описание кабинета Антона Семеновича, поэтому на всякий случай его опишу, тем более я помню все настолько отчетливо, точно только что из него вышла.
Вход в кабинет был сразу же из прихожей, первая дверь направо, как входишь в квартиру. Комната, наверное, метров 14–15, самая маленькая в квартире. Направо, около двери, небольшой диванчик, около него рядом по другой стене стул, затем книжный шкаф, большой, двустворчатый, застекленный – с рукописями и письмами А.С. Макаренко. Напротив, по противоположной стене, еще шкаф, а в углу у окна – бюро, за которым стоя работал А.С. Макаренко. Бюро полностью сохраняло вид как при Антоне Семеновиче. Крышка выдвинута, на ней зеленое сукно, чернильница, пластмассовый высокий стакан с хорошо отточенными карандашами. Кратко рассказала о кабинете специально для меня Галина Стахиевна.
Первое впечатление о ней несколько двойственное. Почему-то я себя очень неловко чувствовала, что мешало общению, и эту некоторую неловкость в ее присутствии так я и не смогла преодолеть не только в первый день нашего знакомства, но и на все остальные дни нашего с ней общения, сама не зная, почему. Это была совершенно другая женщина, ни в чем не похожая на Елизавету Федоровну, которую я невольно вспоминала весь этот день, в душе сравнивая их. Галина Стахиевна была очень красива: стройная, с пронзительно черными яркими глазами, гладкими черными волосами, собранными сзади в пучок. Модно одетая даже дома. Я, признаться, тогда впервые увидела пожилую уже женщину в модных брюках. Вообще она выглядела очень по-столичному, видимо, на распространенном уровне нарядных писательских жен. По сравнению с ней, причем не только внешне, Елизавета Федоровна была, конечно, провинциальнее, проще, старше, но и естественнее. У меня с первого же раза сложилось впечатление, что Галина Стахиевна всегда следит за каждым своим жестом, движением, словом, с кем бы она ни разговаривала. Что я ей? Но совершенно явно она очень хотела почему-то мне понравиться. Она была очень внимательна, обходительна, много и интересно говорила, когда показывала мне кабинет Антона Семеновича, а говорить она умела очень красиво и выразительно, причем с первой же встречи стало ясно, что она начитана, разбирается в искусстве, в курсе дела о всех новинках литературы, живописи, музыки, театра – все это Галина Стахиевна очень умело вставляла в разговор, причем не нарочито, а к месту, как бы между прочим. Она сразу же произвела впечатление модной современной писательской львицы, гордой, независимой, очень культурно, изящной, с большим во всем вкусом: в речи, в выборе предметов предпочтения искусства, в манере поведения, в жестах, в одежде.
В дальнейшем, по ходу работы, я 2–3 раза в неделю бывала в квартире Галины Стахиевны и довольно часто с ней общалась, то очень кратко, то более длительно. Несколько раз она приглашала нас с Екатериной Григорьевной и Виктором Ефимовичем пить чай в столовой, которая находилась напротив кабинета. Стол всегда был красиво сервирован, все со вкусом, изящно, но за столом все чувствовали себя несколько напряженно, во всяком случае я.
Галина Стахиевна и Виктор Ефимович решали вместе все дела по содержанию томов, а также по согласованию их с вышестоящими редакторами И.А. Каировым, Е.Н. Медынским, издательскими редакторами, главлитом, а это было, увы, совсем не просто – отстаивать чаше всего включение в том того, что еще не было до семитомника напечатано.
Несколько раз я была свидетелем и конфликтных отношений с издательством и главлитом. Галина Стахиевна и Виктор Ефимович старались вставить в каждый том по возможности больше еще неопубликованных работ, а издательство предпочитало иметь дело с уже опубликованными. А однажды я оказалась свидетелем такого конфликта. Прибежал во время нашей сверки с рукописью в квартире Галины Стахиевны расстроенный Виктор Ефимович Гмурман и сказал, что главлит требует, чтобы в томе было не меньше 2–3 упоминаний имени Сталина, а в нем нет ни одного. Если не вставить, то главлит грозил через 2 дня рассыпать уже готовый набор. Начали изобретать, как вставлять имя Сталина в те работы, в которых у Макаренко он не упоминался. Пришлось, увы, два раза заменить фамилию Ленина на Сталина, а один раз вставить упоминание Сталина в примечания. Сначала хотели только в примечания вставить, звонили по этому поводу, но главлит не согласился, пришлось пойти на вынужденную фальсификацию текстов Макаренко ради спасения всего тома. Все были очень расстроены: и Галина Стахиевна, и Виктор Ефимович, и мы с Екатериной Григорьевной, но, увы, главлит не шел ни на какие уступки, хотя по телефону их убеждала и просила Галина Стахиевна. Ответ был один – через 2 дня, если не выполните требования, рассыплем набор тома. После того, как я стала невольным свидетелем этого конфликта с главлитом, я стала менее категорична с упреками в адрес Галины Стахиевны по поводу урезания рукописей, купюр в них. Чаще всего купюрами подвергались те места рукописей, где упоминались какие-либо фамилии реальных людей, причем не только репрессированных, но и тех, о жизни и работе которых на данный момент не было точных документальных сведений.
Надо сказать, что Галина Стахиевна всегда очень расстраивалась, когда приходилось делать по требованию главлита ту или иную купюру, следила, чтобы всегда на месте купюры было поставлено многоточие, и строго требовала соблюдения этого от нас с Екатериной Григорьевной при сверке набора с рукописями.
Галина Стахиевна очень старалась, чтобы тома семитомника выходили в намеченный срок, без опозданий, придавая большое значение появлению семитомника в популяризации идей А.С. Макаренко. Вообще она много сделала для того, чтобы имя А.С. Макаренко не только не было забыто, но и звучало все сильнее и сильнее и в педагогике, и в литературе.
Галине Стахиевне присылали все издававшиеся у нас и в зарубежных странах произведения А.С. Макаренко и исследования о нем. В ее квартире накопилось очень много зарубежных изданий. Присылали ей свои произведения или оттиски, копии с картин и иллюстраций все художники, так или иначе отражавшие творчество А.С. Макаренко. В квартире Галины Стахиевны накопилось, таким образом, много интереснейшего материала, помимо рукописей и писем самого А.С. Макаренко, и Галина Стахиевна делала все, чтобы сделать в квартире музей А.С. Макаренко. Она несколько раз хлопотала об этом в самых разных инстанциях, но, увы, безрезультатно. Последнюю самую успешную попытку в хлопотах о музее она сделала незадолго до своей смерти, когда уже в основном, после смерти в 1957 году своего любимого сына Левы, сама жила на даче, а городскую квартиру в Лаврушинском занимала преимущественно последняя жена сына Галины Стахиевны, с которой у нее были плохие отношения. Даже уже было получено разрешение в довольно высокой инстанции на открытие музея А.С. Макаренко, но при выполнении одного мало выполнимого условия: выселить соседей по этажу, чтобы занять под музей и соседнюю квартиру, так как необходим второй вход. Квартира А.С. Макаренко была на 8 этаже, лифт один и очень маленький, вот и было поставлено условие об обязательности второго выхода. Но соседей по этажу надо было обеспечить равноценными квартирами, а это не удалось, и мечта Галины Стахиевны об открытии музея А.С. Макаренко в Лаврушинском переулке так и не осуществилась. А после смерти Галины Стахиевны в архив взяли только рукописи А.С. Макаренко и письма, все остальные, накопленные Галиной Стахиевной, материалы об А.С. Макаренко фактически в основном пропали, оказались не реализованными, лишь кое-что попало в музей А.С. Макаренко в Кременчуге, да уже позже дочь Льва Салько от первого брака отдала музею А.С. Макаренко, созданного первоначально на общественных началах по инициативе Р.М. Бескиной в Киевском районе г. Москвы.
То, что я знаю и помню о Галине Стахиевне Макаренко, было бы явно недостаточным, если бы я не упомянула о своих впечатлениях о ней, как о матери. Это была просто одержимая любовью к своему единственному сыну мать. Лева был для нее главным светом в окошке, единственной любимой звездой, целью ее жизни. Леву Салько я несколько раз видела дома, но редко, так как он днем находился на работе, а мы бывали в квартире Галины Стахиевны только в дневное время. Лева Салько был необыкновенно красив: жгучий брюнет с удивительно красивыми светящимися черными глазами. Лева кончил Московский авиационный институт и, когда я его знала, работал инженером в ЦАГИ. Несколько раз, пожалуй, только два раза, Лева пил вместе с нами чай. Он был живым, привлекательным собеседником и умелым покорителем всех дам, что я и на себе почувствовала. Галина Стахиевна, видимо, была безумно ревнивой матерью. Во всяком случае, она не ладила ни с одной не только женой Левы, но и со всякой женщиной, за которой он пытался ухаживать. По слухам (а скорее всего я это слышала от Лидии Павловны, жены Лежнева, т.к. Екатерина Григорьевна хотя и много знала, но никогда никаких сведений о личной жизни Левы и Галины Стахиевны не давала), первой и очень серьезной любовью Левы была племянница Антона Семеновича, дочь его уехавшего за рубеж брата Олимпиада Витальевна, жившая тоже какое-то время в семье Антона Семеновича, как и Лев. Но, якобы, Галина Стахиевна сделала все, чтобы разрушить эту любовь. Можно, конечно, Галину Стахиевну за это осуждать, но отчасти можно и понять: женитьба на дочери живущего за границей Виталия Макаренко, бывшего белого офицера, могла помешать карьере любимого сына. Думаю, что этот слух об Олимпиаде Витальевне и Галине Стахиевне был правдой, т.к. они до самой смерти Галины Стахиевны не поддерживали никаких отношений, хотя Олимпиада стала женой поэта Сергея Васильева и жила всегда в Москве, а ее дочь Екатерина Васильева сделала большую артистическую карьеру и в театре, и особенно в кино, но при мне Галина Стахиевна, часто говорившая об искусстве, никогда не упоминала ни о Екатерине Васильевой, хотя могла бы ее гордиться, ни об Олимпиаде Витальевне, точно их и не было вообще» [2, с. 15–22].
Фрагмент третий: «…Считаю для себя необходимым продолжить в этих воспоминаниях тему своих встреч с воспитанниками и сотрудниками А.С. Макаренко, которые состоялись уже тогда, когда не существовало лаборатории по изучению и применению наследия А.С. Макаренко. Это мои встречи с воспитанниками В.В. Постниковым, С.А. Калабалиным, Л.В. Конисевичем, Н.К. Колодезниковым, И.И. Яценко и соратниками Антона Семеновича – В.Н. Терским и Е.П. Треневой. <…>
…Думаю, я имею полное право говорить о своей большой настоящей дружбе в течении нескольких лет с Иваном Игнатьевичем Яценко. Мы с ним много-много раз виделись и в Москве, и в Ленинграде, куда я ежегодно в июне ездила на день рождения к своей подруге детства Римме, не только подолгу разговаривали, но и ходили вместе по московским и ленинградским достопримечательностям. Иван Игнатьевич много раз бывал у меня дома, мы не меньше 5–6 лет регулярно переписывались. Целую большую папку писем Ивана Игнатьевича ко мне после его смерти я отдала в московский музей А.С. Макаренко, т.к. в них интереснейшие его воспоминания о коммуне, а также его острая оценка всего публиковавшегося за эти годы об А.С. Макаренко. Наша переписка завязалась первоначально как чисто деловая. Иван Игнатьевич, став после смерти В.В. Постникова секретарем Совета командиров, переживал, что он не всегда в курсе тех макаренковских новостей, которые произошли в музее А.С. Макаренко и вообще в Москве, даже воспитанниками чаще посещаемой, чем Ленинград. И по его просьбе я стала писать ему после каждой макаренковкой среды о всех новостях. Позже переписка из чисто деловой переросла в дружескую, и мы стали делиться самыми разными своими переживаниями: и связанными с А.С. Макаренко, и политическими, и литературными (писали, как правило, о самых интересных прочитанных книгах), и в том числе личными. Так, Иван Игнатьевич писал, в том числе, о своих переживаниях и волнениях по поводу частых болезней жены, о своих бытовых трудностях (приходилось осуществлять все покупки и готовку завтраков, обедов и ужинов для все семьи), выражал и свои огорчения по поводу дочерей, когда они возникали. Младшая дочь, жившая с ним, мало помогала дома. Старшая его дочь жила отдельно, имела семью. Иван Игнатьевич часто бывал у нее, участвовал в воспитании внуков, делился и своими педагогическим трудностями в общении с внуком. В письмах, да и при личных встречах, мы любили задавать друг другу поэтические загадки: один из нас читал поэтический отрывок, другой должен был назвать поэта и произведение. Должна сказать, что чаще в этих наших литературно-поэтических играх выигрывал Иван Игнатьевич, хотя я кончила литфак и знала поэзию довольно прилично, но у Ивана Игнатьевича была лучше память, а глубокие основы знания поэзии он приобрел еще когда-то в литературном кружке у Пушникова в коммуне им. Дзержинского, а потом пополнял, любя литературу и поэзию, всю свою жизнь (он и сам писал стихи), хотя по своей профессии он чистейший технарь: окончил военно-морское артиллерийское училище, преподавал на курсах офицеров флота, служил офицером военной части, затем до 1927 года заведовал лабораторией Ленинградского технологического института. Иван Игнатьевич все Отечественную войну был офицером, затем начальником штаба артиллерийского дивизиона, затем с 1947 года переводится на Балтийский флот, где был командиром части, начальником разведки подразделения. Кончил он войну подполковником, неоднократно награжден, в том числе двумя орденами Отечественной жизни, а затем не менее активной деятельности по пропаганде наследия А.С. Макаренко (выступал в поселках БАМа, в г. Находке Приморского края, в Тамбовской области, на всех московских макаренковских конференциях, много раз в школах Вологодской области) умудрялся быть в курсе многих литературных и особенно поэтических новинках.
Мы вместе с Иваном Игнатьевичем посетили много литературных музеев Москвы и Ленинграда. Обо всем рассказать просто невозможно. Особенно мне запомнились наши общие с ним экскурсии в музеи А.А. Ахматовой и А.С. Пушкина.
Надо сказать, что общий интерес делал восприятие музеев глубже, чем когда я ходила в эти музеи одна. В музее А.А. Ахматовой, в Фонтанном доме и Иван Игнатьевич, и я были впервые, вскоре после его открытия. Музей был не сверх богат экспонатами, но нам очень повезло с экскурсоводом, поэтому впечатление обоюдно было очень сильным.
В музее-квартире А.С. Пушкина на Мойке и я, и Иван Игнатьевич были до нашего общего посещения много раз, но в этот раз впечатления были особенно яркими. В музей-квартиру А.С. Пушкина в тот год летом были огромные очереди, и мне бы, наверное, туда было бы очень трудно попасть, если бы не помогли пройти вне очереди военные заслуги Ивана Игнатьевича. Нам также повезло с экскурсоводом, впечатлений было много, а когда вышли из музея, нас в пути застал буквально ураганный дождь, мы не меньше 40–50 минут были вынуждены спасаться от ливня под какой-то аркой, и мы читали по очереди стихи А.С. Пушкина – кто кого перечитаем. Иван Игнатьевич не уступал, хотя я и в институте пушкинский семинар большого пушкиниста С.М. Бонди посещала, и в Михайловским была 11 раз, и литературу в школе преподавала, но знания стихов Пушкина, благодаря отличной памяти, были у Ивана Игнатьевича отнюдь не меньше моих. Это поэтическое пушкинское стояние под аркой во время ливня запомнилось мне на всю жизнь и сделало Ивана Игнатьевича еще духовно ближе и роднее.
Неожиданную для меня смерть Ивана Игнатьевича я тяжело пережила, как одну из больших потерь. Мне и сейчас очень не хватаем нашего дружеского с ним общения» [2, с. 24, 28–29].
Воспоминания М.Д. Виноградовой являются ярким свидетельством той человечности, гражданственности, которой пропитаны все страницы этого уникального по своему содержанию текста. В дальнейшем мы продолжим знакомить читателя с этими и другими воспоминаниями, письмами и фактами – свидетельствами истории Отечества через призму судеб ее достойных граждан.
1. The archival fund "A.S. Makarenko "Scientific and Memorial Center of figures of pedagogy. M.N. Skatkina, Institute of Strategy for the Development of Education of the Russian Academy of Education (in Russian).
2. Unknown Makarenko. Issue 19 / Compiled by S.S. The Nevskaya. - M., 2009, 46 p. (in Russian).