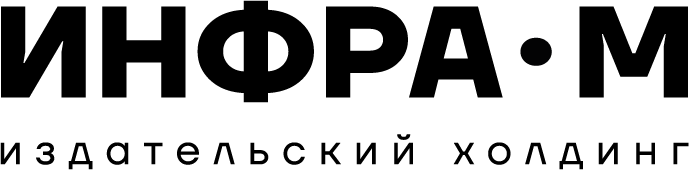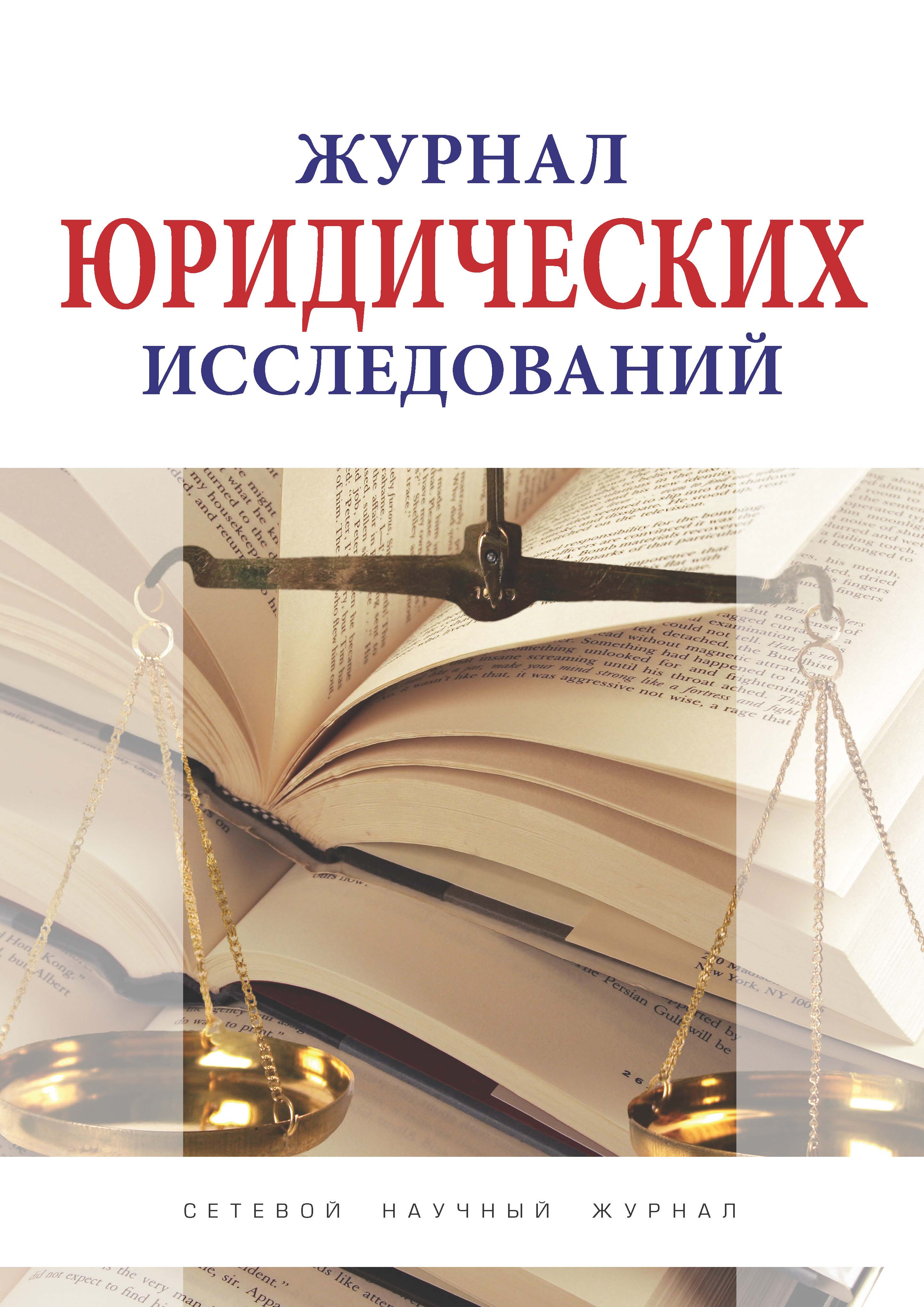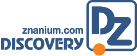Voronezh, Voronezh, Russian Federation
The article considers the mechanism of the state in criminal proceedings. The author offers his vision of the issue and formulates criminal procedural understanding of the mechanism of the state.
mechanism of the state, criminal procedural mechanism, the state mechanism.
Понятие «механизм государства», или «государственный механизм», довольно часто встречается в юридической литературе. Рассматриваемое понятие в большей степени относится к науке теории государства и права, нередко встречается в науке конституционного права, в которой используются также близкие по смыслу понятия «механизм государственной власти» или «конституционный механизм». Попытаемся обосновать понятие «механизм государства» в науке уголовного процесса.
До 50-х гг. XX столетия государственный механизм понимался в широком и узком смыслах. В узком смысле государственный механизм исчерпывался аппаратом государственной власти, а в широком смысле он понимался как вся политическая система общества [1, с. 33, 34].
В последующем от такого понимания механизма государства большинство ученых отказались, и сложилось две основные точки зрения на понятие «механизм государства». Одна из них связана с отождествлением рассматриваемого понятия с понятием «государственный аппарат», согласно другой точке зрения государственный аппарат – всего лишь часть механизма государства. Эти две точки зрения существовали в юридической науке 60–80-х гг. XX столетия.
Наконец, в 90-х гг. постепенно выделяется точка зрения о том, что под государственным аппаратом понимается система органов государства в статике, а под механизмом государства – те же органы, но в динамике, во взаимодействии между собой. Эта точка зрения представляется нам наиболее верной и применимой не только к теории государства и права или к конституционному праву, но и к уголовному процессу.
На сегодняшнем этапе развития юридической науки можно выделить несколько основных точек зрения на понятие «механизм государства»:
1. Механизм государства отождествляется с государственным аппаратом, который, в свою очередь, представляет собой систему или совокупность органов государства. Такая точка зрения в настоящее время широкого распространения не имеет.
2. Механизм государства включает в себя государственный аппарат и другие составляющие части, диапазон которых достаточно широк. Эта точка зрения имеет широкое распространение и на ней следует остановиться более подробно, поскольку, исходя из одного из вариантов этой точки зрения, можно выйти на уголовно-процессуальное понимание механизма государства.
3. Механизм государства – это государственный аппарат в действии, в динамике. Пожалуй, первым в отечественной юридической науке эту точку зрения обосновал Э.П. Григонис. При этом он исходил из этимологии слов «механизм» и «аппарат». Слово «аппарат» применительно к юридической науке означает «учреждение или ряд учреждений, обслуживающих какую-либо отрасль управления или хозяйства». Слово «механизм» определяется как «система, в которой движение одного вызывает движение другого» [2, с. 28].
Сформулированное определение механизма государства Э.П. Григонисом является общетеоретическим. Э.П. Григонис определил: механизм государства (государственный механизм) – это функционирование, действие органов государства (государственного аппарата). Он выражается в определенных способах, принципах функционирования системы государственных органов (государственного аппарата), во взаимосвязи и взаимодействии между собой отдельных ее частей [3, с. 20].
Э.П. Григонис, подвергая критике, понятие механизма государства в качестве государственного аппарата и материальных придатков к нему, обращает внимание на то обстоятельство, что такое определение верно для тоталитарного государства, в котором армия, полиция и другие силовые структуры, действительно, играют самостоятельную и зачастую решающую роль в механизме государства. В правовом государстве, считает он, полиция и другие подобные органы должны трансформироваться в правоохранительные органы. Справедливо считая, что основополагающим принципом организации и функционирования правового государства является принцип разделения властей, Э.П. Григонис делает вывод, что никакой специальной полицейской власти в государстве быть не может. Если брать во внимание именно полицию, то она входит в состав МВД, т.е. органа исполнительной власти, поэтому ее место в механизме государства определяется в качестве составной части исполнительной власти и взаимодействие ее с другими государственными органами должно четко укладываться в рамки функций, обязанностей и прерогатив власти исполнительной [4, с. 42–44].
Подобного мнения придерживаются и другие авторы. Например, А.Н. Харитонов справедливо, на наш взгляд, утверждает, что «…придание полицейским органам какого-либо особого правового статуса, выделение "полицейской власти" наряду с законодательной, исполнительной и судебной властями гипертрофирует роль полиции как "силового", карательного, репрессивного механизма существующего политического режима. Функционирование полицейских органов призвано обеспечивать реализацию законов, относящихся к сферам их деятельности, и решение задач правосудия» [5, с. 160].
Нельзя, однако, отрицать, что роль полиции и других подобных органов в механизме государства отличается некоторыми особенностями. Следует, очевидно, в этом вопросе согласиться с В.М. Зябкиным, который пишет: «Что касается включения в механизм государства "материальных придатков", то от этого термина, скорее всего, надо отказаться, тем более что в последние годы он практически не применяется. Однако те органы, которые традиционно относят к "материальным придаткам" – силовые структуры – действительно, играют большую роль в механизме государства. Их, в зависимости от формы политического режима в конкретном государстве, можно назвать либо карательными, либо правоохранительными. При этом первое определение относится к тоталитарным и авторитарным государствам, а второе – к демократическим государствам. Вряд ли их можно считать самостоятельной частью механизма государства, но роль их в государстве настолько значительна, что их вполне можно рассматривать в качестве особого блока органов государства» [6, с. 19].
Единое понятие правоохранительных органов в отечественной юридической науке отсутствует. Не дает ответ на этот вопрос и законодательство, хотя в нормативных актах словосочетание «правоохранительные органы» встречается довольно часто.
Отметим, что в литературе распространено мнение о понятии правоохранительных органах в узком и широком смыслах. В узком смысле – это правоохранительные органы исполнительной власти, т.е. вооруженные и военизированные органы, а в широком смысле – это также суд и прокуратура. В связи с этим также предлагается понятие правоохранительного механизма государства, под которым понимается система органов государства, включающих суд, прокуратуру и правоохранительные органы, относящиеся к исполнительной власти, осуществляющих на основе разделения властей и во взаимодействии между собой правоохранительную деятельность в государстве. Саму же правоохранительную деятельность государства можно понимать как часть его правоприменительной деятельности, возложенной на специально уполномоченные органы государства, направленной на охрану и защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц, общества и государства в целом и его органов, осуществляемой в форме правосудия, прокурорского надзора, деятельности, направленной на борьбу с преступностью и другими правонарушениями и деятельности по констатации юридически значимых действий и фактов, которая в Российской Федерации реализуется в соответствии с принципами демократического, правового, федеративного и социального государства и по определенным, установленным законом, процедурам.
Как видно, в данных определениях (в общем-то, справедливых) не нашлось специального места для органов предварительного следствия и еще шире – органов предварительного расследования. Представляется, что в нашем случае следует определить понятие уголовно-процессуального механизма государства.
В уголовно-процессуальный механизм государства следует включить все органы государства, осуществляющие уголовно-процессуальную деятельность. В этой сфере сложилась своеобразная триада органов государства: «суд – прокурор – органы предварительного расследования (следователи и дознаватели)», что весьма напоминает триаду органов государства, входящих в его механизм в теоретико-правовом смысле: «органы законодательной власти – органы исполнительной власти – органы судебной власти». Говоря о триаде органов власти в механизме государства, мы должны иметь в виду и триаду соответствующих властей. В механизме государства в теоретико-правовом смысле эти власти выделяются достаточно четко и недвусмысленно: законодательная, исполнительная, судебная. Применимо ли такое положение дел для уголовно-процессуального механизма государства?
Представляется, что к этому имеются все основания. Наличие судебной власти, принадлежащей судам ни у кого не вызывает сомнения. В литературе существуют серьезные обоснования обвинительной власти, осуществляемой прокурором. С определенной долей условности можно говорить и о следственной власти.
Термин «обвинительная власть» появился в русской научной литературе в ходе подготовки судебной реформы второй половины XIX в. Он нашел закрепление в законодательстве (ст. 3 и 4 Основных положений преобразования судебной части в России 1862 г.; ст. 510, 511 Устава уголовного судопроизводства).
Н.А. Буцковский [7, с. 8], Н.В. Муравьев, И.Г. Щегловитов, другие видные деятели дореволюционной прокуратуры и ученые развивали это понятие как ключевое для теории организации и деятельности прокуратуры в условиях пореформенного процесса.
Так, Н.А. Буцковский отмечал, что, поскольку власть обвинительная должна быть отделена от судебной, постольку обнаружение и преследование виновных необходимо предоставить прокурорам [7, с. 9].
По мнению Н.В. Муравьева, прокуратура как судебное уголовное учреждение облечена обвинительной властью, которая проявляется вообще в уголовном преследовании и, в частности, в обвинении на суде. Под «обвинительной властью» подразумевается сам институт прокуратуры и совокупность субъективных прав и обязанностей прокуратуры по уголовным делам. Понятием «обвинительная власть» охватывается и совокупность, облеченных этой властью деятелей, осуществляющих уголовное преследование. По мнению Н.В. Муравьева, расчленение уголовно-судебных функций (на судебную, защитную и обвинительную) и потребность в публичном уголовном преследовании делает прокуратуру органом обвинительной власти, а само уголовное преследование – важнейшим предметом ведения прокурорского надзора [8, с. 534].
В литературе высказано мнение, что к органам уголовного преследования относятся и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность [9, с. 98]. Эти органы не указаны в УПК РФ в качестве относящихся к участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения, более того, сами по себе они участниками уголовного судопроизводства не являются. Однако большинство органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, одновременно являются и органами дознания и в этом качестве являются органами уголовного преследования.
Еще в конце XIX в. русский ученый А.С. Квачевский писал: «При внимательном разборе законодательств уголовного судопроизводства стали различать в них две системы, направляющие его составные части, дающие его содержанию определенный характер. Одна из них называется обвинительной, другая – следственной. В первой обвинитель в личном интересе как лицо, потерпевшее от преступления, или в интересе общественном как представитель его, непосредственно является перед судьей с обвинением против известного лица, сам заботится о приведении в известность обстоятельств о разыскании доказательств, равно как обвиняемый сам собирает данные, служащие к его защите; судья является между ними как бы посредником, решающим их спор, уголовный иск. В следственной части следователь или другое лицо, облеченное общественной властью, начинает преследование преступлений, поражающих общественный интерес, по собственному побуждению, расследует обстоятельства, ищет доказательства с участием или без участия сторон и затем предоставляет суду решение виновности или невиновности обвиняемого» [10, с. 11].
А.С. Квачевский далее обращает внимание на положительные и отрицательные стороны обвинительного и следственного уголовного процесса и отмечает, в частности, что «…система обвинительная, оказывая покровительство преимущественно личному интересу, ослабевает интерес общественный; следственная все внимание сосредотачивает на последнем нередко в ущерб первому; та и другая, ослабевая уголовное преследование или защиту, подрывают интересы правосудия <…> сознание недостатков каждой из них порознь привело к мысли соединить эти две системы, согласно с выяснившимся опытом правосудия; это стремление породило новую систему смешанную» [10, с. 13].
Конечно, в современном российском уголовном процессе государственная обвинительная власть, которая осуществляется прокурором, в подавляющем большинстве случаев направлена на защиту публичных интересов, и только в редких случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, эта власть распространяется на дела частно-публичного и частного обвинения, когда уголовное дело возбуждается и при отсутствии заявления потерпевшего, если преступление совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или по иным причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами. Однако в целом рассуждения А.С. Квачевского верны и для нашего времени, так как суть уголовно-процессуальной деятельности прокурора-обвинителя и следователя (дознавателя) различна и властные полномочия, осуществляемые ими, имеют неодинаковую юридическую природу.
На первый взгляд и прокурор, и следователь (дознаватель) осуществляют одну и ту же обвинительную власть, поскольку УПК РФ отнес и того и другого участника уголовного судопроизводства к стороне обвинения. Позиция законодателя, в общем-то, ясна. Тем самым он хотел подчеркнуть, что уголовное судопроизводство целиком строится в соответствии с принципом состязательности, закрепленном как в самом УПК РФ (ст. 15), так и в Конституции РФ (ч. 3 ст. 123). Одним из общепризнанных в теории уголовного процесса составляющих компонентов состязательности является разделение уголовно-процессуальных функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела и недопущение их возложения на одно и то же лицо. Эти теоретические положения отныне прямо закреплены в ч. 2 ст. 15 УПК РФ. Если строго следовать этим теоретическим и законодательным положениям, то, действительно, следователь (дознаватель) должен выполнять только одну из указанных уголовно-процессуальных функций, а именно функцию обвинения. На самом же деле положения науки уголовного процесса, новейшие ее достижения законодателем учтены не в полной мере, поскольку понятия состязательности и уголовно-процессуальных функций в ней понимаются не так прямолинейно и однозначно, как это отражено в УПК РФ.
Состязательный уголовный процесс, предполагающий в первую очередь равноправие сторон обвинения и защиты перед судом, открытость, устность и т.д., есть противоположность розыскному уголовному процессу, исключающему само наличие сторон, закрытость, письменность и т.д. Однако, как справедливо отмечают многие ученые-процессуалисты, состязательный и розыскной уголовный процесс суть его идеальные типы, в чистом виде практически не встречающиеся. К идеальному типу уголовного процесса особенно в советской, а довольно часто и в современной литературе относят и смешанный уголовный процесс, сочетающий в себе черты и состязательного и розыскного начала.
Современный подход к типологии уголовного судопроизводства все в большей степени основывается на том, что смешанный уголовный процесс не является идеальным типом процесса, так как отражает реальное построение производства по делу. В действительности любое судопроизводство является смешанным, отклоняясь к полюсу розыска или состязательности.
Отнесение следователя и органов предварительного расследования в целом законодателем в УПК РФ к стороне обвинения является декларативным и выражает стремление российского законодателя официально закрепить состязательный тип уголовного судопроизводства. На самом деле следователь осуществляет не функцию обвинения, а самостоятельную функцию предварительного расследования, включающую в себя в том числе и уголовное преследование, но не ограниченную только им.
Осуществление этой функции основано на принципе всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела в условиях фактически смешанного российского уголовного процесса.
В российском смешанном уголовном процессе осуществляются четыре уголовно-процессуальные функции: обвинение, защита, предварительное расследование и судебное разрешение дела (правосудие). Как видно, в этом вопросе мы разделяем указанную позицию П.А. Лупинской по вопросу выделения самостоятельной функции расследования, включая и то обстоятельство, что в содержание этой функции входит уголовное преследование, однако с существенным дополнением о том, что уголовное преследование является не единственной составляющей функции предварительного расследования [11, с. 75, 76].
Такой подход к проблеме уголовно-процессуальных функций позволяет четко выделить носителей каждой из них. Функцию обвинения осуществляют прокурор, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель. Функцию защиты осуществляют подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, защитник, гражданский ответчик, его законный представитель и представители. Функцию предварительного расследования осуществляют следователь, руководитель следственного органа, начальник подразделения дознания, дознаватель и орган дознания. Функцию правосудия осуществляет суд.
Изложенное выше позволяет нам сформулировать понятие уголовно-процессуального механизма государства вообще и современного российского государства, в частности, основанное на общетеоретическом понятии механизма государства, которое сформулировал Э.П. Григонис, а также понятии правоохранительного механизма государства, которое сформулировал В.М. Зябкин: Уголовно-процессуальный механизм государства – это функционирование, действие государственных органов в сфере уголовного судопроизводства. Он выражается в определенных способах, принципах функционирования системы государственных органов этих органов, во взаимосвязи и взаимодействии между собой отдельных ее частей. Уголовно-процессуальный механизм современного российского государства – это система государственных органов, включающих суд, прокуратуру и органы предварительного расследования (органы предварительного следствия и дознания), осуществляющих на основе разделения уголовно-процессуальных функций и во взаимодействии между собой уголовно-процессуальную деятельность в РФ.
1. Iskakova M.I. Mehanizm sovetskogo obschenarodnogo gosudarstva [Tekst]: dis. ...kand. yurid. nauk / M.I. Iskakova. - Saratov, 1984.
2. Grigonis E.P. Mehanizm gosudarstva (teoretiko-pravovoy aspekt) [Tekst]: dis. ...d-ra yurid. nauk / E.P. Grigonis. - SPb., 2000.
3. Grigonis E.P. Mehanizm gosudarstva: voprosy teorii i praktiki [Tekst] / E.P. Grigonis. - SPb.,1999.
4. Grigonis E.P. Mehanizm gosudarstva (teoretiko-pravovoy aspekt) [Tekst]: dis. …d-ra yurid. nauk / E.P. Grigonis. - SPb.,2000.
5. Haritonov A.N. Gosudarstvennyy kontrol' nad prestupnost'yu [Tekst] / A.N. Haritonov. - Omsk, 1997.
6. Zyabkin V.M. Tamozhennye organy v mehanizme Rossiyskogo gosudarstva (teoretiko-pravovoy aspekt) [Tekst]: dis. …kand. yurid. nauk / V.M. Zyabkin. - SPb., 2000.
7. Buckovskiy N.A. O deyatel'nosti prokurorskogo nadzora vsledstvie otdeleniya obvinitel'noy vlasti ot sudebnoy [Tekst] / N.A. Buckovskiy. - SPb., 1867.
8. Murav'ev N.V. Obschie osnovaniya ustroystva i ugolovnoy deyatel'nosti prokurorskogo nadzora [Tekst] / N.V. Murav'ev. - T.1. - SPb., 1900.
9. Belov S.D. Ugolovno-processual'naya deyatel'nost' prokuratury Rossiyskoy Federacii, osuschestvlyaemaya v hode dosudebnogo proizvodstva po ugolovnomu delu [Tekst]: dis. …kand. yurid. nauk / S.D. Belov. - SPb., 2002.
10. Kvachevskiy A.A. Ob ugolovnom presledovanii, doznanii i predvaritel'nom issledovanii prestupleniy po sudebnym ustavam 1864. Chast' 3 [Tekst] / A.A. Kvachevskiy. - SPb., 1867.
11. Lupinskaya P.A. Sub'ekty ugolovnogo processa [Tekst] / P.A. Lupinskaya; otv. red. P.A. Lupinskaya. - M., 2000.