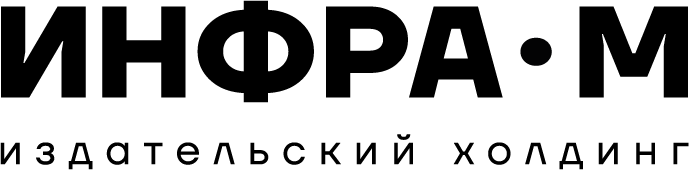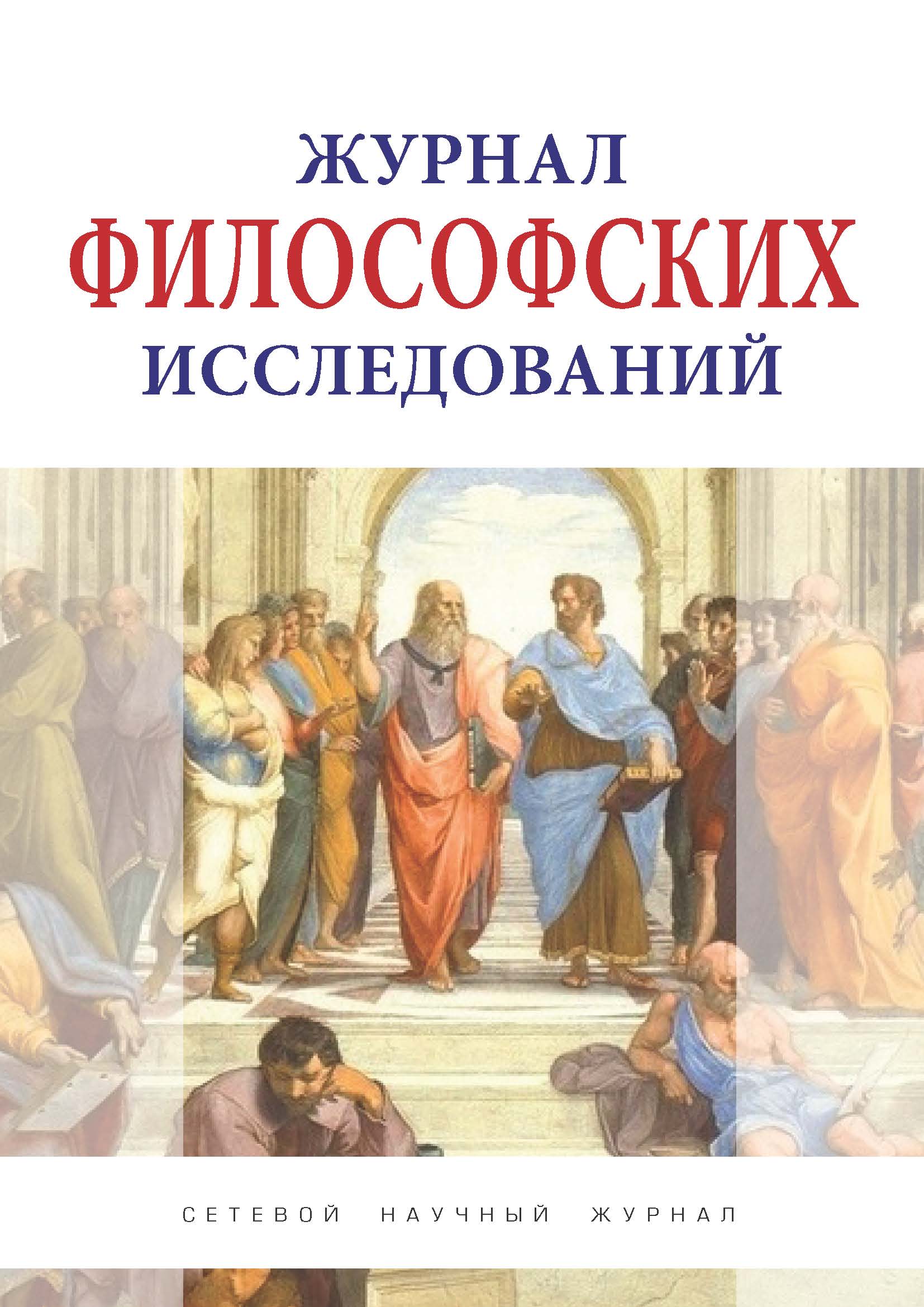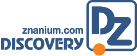В статье рассматриваются основные характеристики эволюции философии в культуре последних двух столетий, доказывается важность обращения к опыту осмысления соотношения между мыслью и словом в философии немецкого идеализма как последней эпохи классической философии, указываются причины обостренного интереса современной философии к поиску новых форм выражения мысли, определяются особенности методов современной философии и способов их воплощения в философских текстах. Слово используется в философии как средство выражения, при этом философия в целом относится к нему критически. Философия является живым мышлением, она требует непрерывной активности субъекта мысли. В современных условиях доступность текстов не способствует более вдумчивому их прочтению. Для продолжения жизни в новом столетии философия должна научиться сопровождать мыслительный процесс поиском индивидуальной и абсолютно пластичной формы выражения. Образцом такого отношения к форме и стилю повествования может служить для философии поэзия. В статье используются методы историко-философской реконструкции и анализа, сравнительно-исторические и социологические методы. Обосновывается вывод о необходимости анализа взаимодействия понятийных и образных средств в философии немецкого идеализма и в постклассической философии. Автор подчеркивает актуальность обращения философского сообщества к рассматриваемой проблематике в связи с изменениями социальных и технических условий существования философии в культуре и необходимостью поисков нового образа философии в культуре информационного общества.
современная культура, классическая философия, природа философского знания, проблема выражения мысли, немецкий идеализм, художественное измерение философского текста, социальный контекст существования философии, современная информационная среда, философия и поэзия, индивидуальное выражение мысли
Введение
В последние десятилетия и в европейской, и в отечественной философии усилились тенденции к переосмыслению отношений между «мыслью» и «словом»; «универсальность пространства представления» и исчерпывающая проницаемость слова перед рефлектирующей мыслью были поставлены под сомнение; однако этот процесс не оказал существенного влияния на анализ бытования философских текстов в культуре, а между тем именно в последние десятилетия быстро накапливаются новые факторы, побуждающие философское сообщество к подобному анализу. Да и взгляд на философию как на всецело рациональную деятельность возлагает, кажется, дополнительную ответственность на автора философского текста в поисках единственного адекватно выражающего смысл его интуиций слова, ведь судьба оставила его, в отличие от поэта, один на один с мыслью. Как бы там ни было, но попытка осмысления изменений, сопровождающих восприятие философских текстов и возможное их порождение в современной культуре, представляется сегодня важнейшей темой самой философии, утратившей наивную уверенность, будто способность постигать «само бытие» избавляет ее от критической переоценки традиционных средств выражения и трансляции своих идей.
При этом постановка вопроса об эволюции формы и стиля философского повествования в границах современной культуры еще не означает, что форма и стиль философского письма классической эпохи проблемы для нас не представляет, и перед нами стоит задача отметить лишь те отличия, которые появляются в этой области сегодня. Очевидно, дело обстоит не так. Формальные аспекты существования философии в предшествующие десятилетия обсуждались не слишком активно; конечно, можно указать примеры обращения исследователей к вопросам формы философского творчества (Васильева, 1985; Вайнштейн, 1994). Все же следует согласиться с тем, что задачу истории философии традиционно видели, прежде всего, в том, чтобы понять содержательные закономерности историко-философского процесса, эволюцию «идей», а не форму философского творчества, последняя (если на нее вообще обращали внимание) чаще всего объяснялась потребностями выявления новаторского содержания философских учений или социально-историческим контекстом их возникновения. Кроме того, тема эта принадлежит к числу самых трудных в философии, обращение к ней требует от исследователя не только широты историко-философской эрудиции, но и некоторого «изменения оптики», перенастраивания привычного взгляда на философские проблемы, складывающегося у всякого изучающего философию еще с юности. Поэтому обсуждение «эволюции» формы философствования требует обзора исходного состояния соотношения «содержание – форма» в философском творчестве; попытаемся зафиксировать при этом только те особенности философского повествования, которые существенно меняются под влиянием новых условий воспроизводства культуры.
Мысль и слово в философии
Философам всегда трудно было доверить слову, т.е. мысли, достигшей непосредственности звучания и визуальной простоты, все богатство своих прозрений и догадок, часто далеких от определенности и ясности. Мысль в философии с необходимостью переливалась в слово, отпечатывалась и застывала в нем, но и сопровождала достижение этого результата «параллельными» рационально-дискурсивными процедурами (определениями, обоснованиями, пояснениями и т.п.). Так складывался своеобразный (и не всегда привлекательный для современного читателя) «язык философии», характеризующийся принципиально критическим отношением к слову естественного языка как средству выражения мысли. Но и оказавшись в слове и смирившись с этим, живя в слове, мысль ведет себя в отношении к нему в философии принципиально иначе, чем, например, в науке, в которой ведь также действительной субстанцией является «концепт», а в качестве способа его фиксации и трансляции формируется «научная терминология». В чем же состоит это различие? На какие особенности философского повествования оно указывает? Воспользуемся в этом пункте помощью М.К. Мамардашвили, который в Кантианских вариациях в связи с попытками Канта вскрыть «природу и возможности философствования, в отличие от науки» замечает: «В философии нельзя записать и забыть, помня лишь форму написанного <…> Мы не можем придать шагу нашего рассуждения такую символическую форму, записав которую, на последующих шагах рассуждения не должны были бы заново, снова возвращаться к этому первому шагу и восстанавливать, как он был сделан. Мы можем облегчить усилие нашего мышления удержанием самой символической формы записи – знаковой, языковой, – соединяя ее по определенным правилам с другими знаковыми формами (это относится к наукам, в частности, к математике. – В.К.). Философия же не дает такой возможности, хотя бы потому, как выражается Кант, что философия под знаки нигде не может подставить предмет in concrete, т.е. наглядный, независимо от операции рассудка выделенный в данный предмет. В философии приходится на каждом шагу рассуждения держать в голове и тянуть за собой все нити, не имея возможности передоверить что-то той памяти, которую несут символы, знаковые записи. Ограниченность, неизбежность для нее держания всего очень беспокоит Канта. Философия, действительно, похожа на некоторый странный язык, лишенный его свойств, потому что в языке мы можем держать прошлое фиксирующим его знаком и не распаковывать знак на каждом шагу, а философия должна распаковывать каждый шаг и все время держать все вместе. Отсюда даже в работе Канта «Всеобщая история неба», не имеющей, казалось бы, никакого отношения к этим духовным проблемам, появляется рассуждение о том, как мышление может уставать от напряжения и быть неспособным от усталости это напряжение держать» (Мамардашвили, 2001, с. 83, 84).
Я с сожалением прервал цитату и должен буду и в дальнейшем удерживать себя от желания слишком часто обращаться к тексту Кантианских вариаций, потому что эти лекции в целом как раз представляют собой опыт «перенастройки оптики», о необходимости которой упоминалось выше. Зададимся, однако, пока вопросом о том, почему именно в связи с исследованием философии Канта у нашего автора прорывается это рассуждение? Именно у Канта, в финале истории метафизики, напряжение между непосредственностью вместившего мысль слова и «структурностью» этой мысли, не способной найти умиротворение и в сотнях страниц рассуждений, доказательств, уточнений и т.п., достигает максимальной остроты. Внимательные читатели Канта давно заметили, что он как бы насильно, в противоречии со своей склонностью к лаконичному, остроумному и даже художественному стилю повествования, который «по недосмотру» сохраняется и в его трактатах, а в письмах и черновиках и вовсе обладает всеми правами гражданства, оснащает свою философскую прозу всеми орудиями схоластической учености, препятствующими не только тому, чтобы получать от чтения удовольствие, но и тому, чтобы просто удерживать главную мысль, основную линию повествования. Разъясняя причины этого странного насилия Канта над собой, вернемся еще хотя бы раз к книге М.К. Мамардашвили: «Держание (всех «нитей», уже пройденных ступеней мысли. – В.К.) и есть, по Канту, метафизика. Предметом метафизики является невидимое» (Мамардашвили, 2002, с. 84). Запоминающийся образ, запечатлевающий следствия этой особой трудности философского познания, нашел А.Д. Власов: «Философия… трудна для понимания. В отличие от естественных наук… в философии, как кажется, занимаются тривиальными или сильно упрощенными рассуждениями и представлениями. Эту кажущуюся простоту рассуждений можно сравнить с медленной осторожной походкой горовосходителей. Эти последние ведут себя не как мужчины в расцвете сил, а как дряхлые, еле передвигающие ноги старики. Но там, в горах, в заоблачной высоте и в разряженном воздухе философских абстракций, элементарные движения даются с большим трудом, чем виртуозные гимнастические трюки на уровне моря. Там, в заоблачных высотах философии, люди теряют присущую им силу и гибкость ума, и даже простые истины постигаются с таким невероятным трудом, как будто бы их воспринимают умственно неполноценные создания» (Власов, 1997, с. 4, 5).
Философия – живое мышление, несмотря ни на какие таблицы, сухую латынь и т.п. Всякий, кому случалось читать лекции по философии, знает, что невозможно позволить себе забыть, например, о Пармениде, приступая к рассказу о Демокрите, и логику обоих (да и всех предшествующих мыслителей) нужно будет держать в уме, рассказывая о Платоне; и каждый новый этап, каждое новое слово в этом рассказе – естественное продолжение всей системы связей, которую лектор должен постоянно воспроизводить в себе, отличая поверхность своей речи (т.е. произносимое в эту минуту) от ее глубин, в конце концов, от всей совокупности свих знаний и размышлений о философии. Философия – целое и в прямом смысле «живой организм», она в каждый из моментов своеобразно, но всегда целиком, должна присутствовать в каждом произносимом или записываемом философом слове. Язык лишь отчасти (!) способен в философии помочь мышлению – совсем не то, что в науках, например, в математике (этот пример наиболее важен для самого Канта как вследствие того, что, согласно концепции Критики чистого разума, в основе математики лежат созерцания, так и вследствие очевидных успехов этой дисциплины среди европейских наук Нового времени). Но вне языка философии также не существует, и она пользуется его «услугами» просто потому, что другого «слуги» у нее как у рационального, анализирующего и доказывающего способа познания и передачи знания нет. Сам Кант соглашается терпеть это положение, тогда как его молодые современники (романтики, Шеллинг, Гегель) каждый по-своему попытаются преодолеть «зазор» между философией и языком. Однако эксперименты послекантовской эпохи с языком повествования, когда философия (через демонстративное обострение Кантом конфликта между «живым мышлением» и неизбежно сопровождающим его «схоластическим повествованием») подошла к необходимости фундаментального переосмысления отношений мышления и языка, известны сегодня недостаточно, поэтому для продолжения обсуждения нашей темы следует обратиться к немецкому идеализму с целью прояснить складывающуюся в эту эпоху новое понимание задач философии и форм вхождения философии в культуру.
Художественное измерение философского текста
Одно из принципиальных решений проблемы выработки адекватного природе философии языка на излете европейской философской классики дается в гегелевском учении о диалектико-спекулятивном методе: философская речь превращается в последовательность суждений, в некое внутренне противоречивое «метасуждение», пластично и полно отражающее бесконечное содержание спекулятивного мышления. Правда, это решение ведет к пересмотру представлений о предмете и границах философии, связывая философское знание лишь с «бытием-определенностью» и снимая вопрос о его отношении к лежащему за пределами мысли «существованию», – таким, последовательно трансценденталистским, оказывается последнее «слово» классической философии; она вырабатывает язык, достигающий структурного совершенства, сливающийся с мышлением, но мышление при этом теряет связь с внешней мысли предметностью, которую прежде оно стремилось отразить.
Гегель в труде «Наука логики» и более поздних трудах (в отличие от «Феноменологии духа», о которой мы будем рассуждать ниже) остается в границах традиции, сторонники которой стремились найти «логическое», рациональное решение «проблемы языка» философии, более того дает, как это ему свойственно, максимально последовательное и полное выражение отстаиваемой точки зрения. Вряд ли следует сомневаться в правомерности использования такого подхода именно в рамках философии, которая обращается к мысли как инструменту познания действительности. Но может ли он сочетаться с другими подходами, проявившимися в философии этого времени, и, поскольку философия имеет дело с тотальностью, конкретным, соответствующим актуальной бесконечности, бытием – с практикой использования художественных средств в философской речи? Может ли присутствие в философском тексте художественных способов выражения мысли оказаться чем-то большим, чем неким ее «украшением»? Способно ли оно сохранить чаемую философом целостность мысли?
Роль Канта как «революционера» в европейской философии XVIII в. хорошо известна, однако потребность еще раз вспоминать о его творчестве в контексте обсуждения вопроса о художественных средствах выражения философской мысли неочевидна. В самом деле, все три «Критики», да и большинство других произведений мыслителя, как уже упоминалось, представляют собой образцы вполне «схоластического» по своему стилю философствования, оперирующего труднейшими классификациями, нарочито «строгими» определениями и «доказательствами», и лишь изредка, как бы по недосмотру самого автора, в тексте мелькают яркая фраза, не нуждающееся в «доказательствах» проницательное суждение или эмоциональная оценка. И все же без разбора взглядов кенигсбергского философа не обойтись, и дело тут даже не в том, что эстетика (почти непредумышленно) оказалась у Канта завершением его системы философии, не в тех или иных частных находках, обусловивших ее колоссальное влияние на последующую философию и культуру (влияние учения о гении на романтиков и всю последующую культуру – самый показательный пример). Прежде всего, роль Кант заключается в том, что он продемонстрировал самостоятельность художественно-эстетического отношения человека к действительности, его несводимость к другим формам духовной деятельности, универсальность искусства как особого инструмента «постижения» человека (подыскать более точное слово оказывается трудно, поскольку, как известно, Кант отрицал познавательные функции искусства – искусство ничего не познает, хотя восприятие произведений искусства и провоцирует игру всех познавательных способностей человека). И самое главное: в суждении вкуса как элементарной единице сферы эстетического – такова уж логика изложения! – в качестве ключевой проблемы вырастает проблема выражения мысли, которая затем проецируется и на философию в целом. Но обо всем по порядку.
Слова о «логике изложения» в труде «Критика способности суждения» призваны оттенить следующее: сам Кант не обратил должного внимания на то открывающееся читателю обстоятельство, что выносящий «суждение вкуса» критик также должен искать выражение для эстетической оценки, которую он стремится сообщить (вспомним, что мысль о «сообщаемости» эстетического переживания играет у Канта ключевую роль, отделяя, по существу, «прекрасное» (форму) от «приятного» (материи) и тем самым конституируя сферу эстетического). Конечно, форма этого «вторичного» сообщения – преимущественно логическая, вербальная – принципиально отличается от самого оцениваемого эстетического феномена. Но и с учетом этого критик – автор «суждения вкуса» – должен все же приближаться к художнику, творцу, в искусстве поиска средств выражения мысли. Но, может быть, это касается исключительно эстетики, а другие философские дисциплины могут продолжать считать вопрос о языке выражения мысли вторичным? Вспомним, в чем, по Канту, сходны искусство и философия: оба эти вида духовной деятельности человека имеют дело с объектами предельной степени структурной сложности, внутренние связи их элементов бесконечно опосредованы, вследствие чего попытки использовать в них привычные категории рассудка – и соответствующий им привычный для ученых «язык науки»! – оказываются неизбежно безуспешными. «Секрет» философии, как и искусства, – не в абстрактных «идеях», которые часто остаются бессильными, – философские сочинения, как и стихи, состоят из слов, а не из идей! – а в умении воплотить их в адекватные, соответствующие сложности и тонкости идей и динамично разворачивающиеся тексты. В философии автор, погружаясь в содержание, не может выпускать из виду и поиск оптимальной формы изложения (упоминавшаяся уже «перенастройка оптики»). Решение этой задачи оказывается столь трудным потому, что в отличие от поэта философ не имеет возможности передоверить его вдохновению, положиться на чувство языка как некое целое, из которого произрастает художественное творение. Напротив, философский текст, подобно научному, должен сохранять все рациональные характеристики, быть проверяемым, обоснованным, воспроизводимым. О.Б. Вайнштейн применительно к подобной ситуации отмечает «боковое зрение» философа, позволяющее ему преодолевать трудности поиска формы выражения: «У романтика, как правило, всегда включено "боковое зрение": параллельно развитию мысли идет рефлексия относительно метода познания и способов выражения. Самое простое ее проявление – уделять внимание языку, «замечать» слова в процессе говорения» (Вайнштейн, 1994, с. 15). Понятно, насколько сложно сформировать эту способность и как трудно постоянно удерживать внимание не только к движению содержания (о чем говорил Кант), но и к поиску оптимальной формы его выражения. Приходится констатировать, что философия в отличие от поэзии – это не только бесконечный дар, но и бесконечный труд.
Посмотрим теперь на специфику философского текста не со стороны автора, а со стороны читателя. Обычный человек, с его обычным рассудком, не может следовать за той частью души художника (гения), которая оказывается у Канта подлинным творцом произведения искусства (так от Канта, человека, кажется, во всем «неромантичного», начинается движение немецкой культуры к романтизму). Следует ли относить это положение и к философскому тексту, столь же целостному, органичному? Или рациональность философского познания требует от философа предоставлять, как позднее скажет Гегель, некую «лестницу», по которой к философии смог бы подняться всякий, кто обладает рассудком? В Критике способности суждения, там, где Кант говорит о различии «гения» и «таланта» (параграфы 46–50), он, к сожалению, не задается интереснейшим с точки зрения проблемы определения природы философии вопросом о том, носителем какой из этих двух творческих субстанций является философ. Но если мы вспомним, что философия обращается к предметам предельной степени сложности, предметам, которые «не делятся на рассудок без остатка», ответ окажется для нас понятным. Правда, следует признать, что Кант, не расставшийся с надеждами на построение новой метафизики (пусть и на основе «критики разума»), мог бы с этим ответом и не согласиться; ответ этот – ответ первого поколения читателей, ориентировавшихся на упомянутую «логику изложения», – ответ романтиков.
А.Ф. Лосев прямо говорит, что Кант явился «…и началом совершенно новой эпохи в учении об искусстве, именно эпохи романтизма» (Лосев, 1994, с. 46): «После того, как Кант формулировал эстетику и искусство в их полной специфике, в их самодовлении и в их чистой созерцательности, причем искусство толковалось у него как изображение целесообразности без всякой цели и даже просто как игра, после этого открылась возможность понимать искусство уже не как логически сконструированную область, но как некоего рода абсолютную действительность, которая выше всякой другой возможной действительности» (Лосев, 1994, с. 46). Эта мысль становится важнейшей для романтиков: «Поэзия есть воистину абсолютно Реальное. Это ядро моей философии. Чем поэтичнее, тем истинней» (Новалис, 1995, с. 145). Различие между философией и поэзией, между «философом» и «поэтом» теперь стирается: «Истинный поэт — всеведущ; он действительный мир в малом» (Новалис, 1995, с. 147). Единственной реальностью становится символическая реальность языка («Язык – это Дельфы» (Новалис, 1995, с. 147)), а единственной (и единой для философии и искусства) задачей философа (поэта) – задача поиска адекватного выражения, причем неважно, скажем ли мы – выражения переживания (субъективного) или реальности (объективного): «Я = Не-Я: высшее положение всякой науки и искусства» ((Новалис, 1995, с. 150); «Что есть природа? – Энциклопедический, систематический Index, или план нашего духа» (Новалис, 1995, с. 150); «Мир есть всеобщий троп духа, символический образ его» (Новалис, 1995, с. 150)). Тождество субъекта и объекта Шеллинга – лишь схематичное, т.е. старым метафизическим языком выраженное общее представление, ставшее после Канта естественным для всей европейской интеллектуальной атмосферы.
В этой ситуации главной проблемой философии становится проблема осмысления самой природы философской деятельности; говоря словами Ф. Шлегеля, на первый план выходит задача создания «философии философии»; поиски адекватного языка философии — внешнее, но весьма значимое измерение этой проблемы. Понятно, что язык философии должен был в продолжение всего нескольких лет после кантовских «Критик» радикально измениться: «Романтическая эстетика держится на пульсации переливающихся понятий, на вечном круговращении переливающейся энергии, и стоит войти в этот поток, как он пронесет по всем поворотам и изгибам. Категории, конечно, при некотором усилии выделимы, но не имеют регламентированных границ, пределы их априорной ясности размыты» (Вайнштейн, 1994, с. 35). В творчестве романтиков (в том числе и Шеллинга) философия постепенно теряет определенные границы, сливаясь с творчеством вообще. Строго говоря, с позиции романтизма в этом нет ничего достойного сожаления, и уже это обстоятельство, а не только массированная критика гегелевской философии, которая начнется лишь в 1840-е гг., должно пониматься как указание на завершение традиции классической философии. Кант своим учением о непознаваемости «вещей в себе», составляющих предмет именно метафизики, переформулировал проблему философии настолько остро, что у первой когорты его последователей не хватило решимости отстаивать ее границы и всерьез взяться за выработку нового аутентичного языка философии, который, как показывает опыт Критики способности суждения, должен был бы оказаться в чем-то родственным языкам искусства, и все же не сливаться с ними. Стиль романтиков оказывается «философски-художественным» в том смысле, что «поэтическое» приходит на выручку «концептуальному» в ситуации, когда философы в одночасье утратили все инструменты выражения мысли, использовавшиеся на протяжении столетий в прежней метафизике. Может быть, это и есть единственно возможная судьба для метафизики, попавшей под огонь «критической философии»?
Мыслитель, который пытается дать собственно философский ответ на этот вопрос, – это Гегель, точнее «автор "Феноменологии духа"», поскольку, как мы заметили, в более поздний период Гегель отходил от осмысления тех новаций, которые в осознание проблемы природы и предназначения философии внес Кант. В самом общем виде ответ «Феноменологии» заключается в следующем: точка зрения философии («абсолютного знания») вызревает в процессе «опыта сознания», который не сводится ни к осмыслению реальной истории человечества, ни к дедукции фихтевско-шеллинговского типа. Гегель вводит в структуру повествования особую инстанцию – «наше сознание», феноменолога, который «проживает» все пути наблюдаемого сознания, отождествляя себя с ним в каждом отдельном опыте. В результате все способы отношения сознания к предмету, все «языки», на которых оно выражает свое содержание, должны, по замыслу Гегеля, сохраняться и в «абсолютном знании» (философии), но они сохраняются не в своей непосредственности, а «снимаются» в неком новом синтетическом языке, который и должен оказаться специфическим языком новой философии. Необыкновенное разнообразие проблематики «Феноменологии», озадачивающее и пугающее читателя (социальная история и теоретико-познавательные вопросы, мораль, религия, искусство и т.п.), не в последнюю очередь объясняется как раз желанием выработки собственного языка философии. И трудность книги связана не в последнюю очередь с тем, что это намерение автора нашло реальное воплощение в тексте. Был ли завершен у Гегеля этот процесс? Со всей определенностью можно сказать, что нет. В письме Нитхаммеру от 16 января 1807 г. читаем: «При последнем чтении (с целью найти опечатки) у меня часто появлялось желание почистить верстку во многих местах от балласта и сделать текст более гладким; при втором издании, которое будет скоро — si diis placet!? – все должно стать лучше, и этим я утешаю себя, этим должен утешать и других…» (Гегель, 1973, с. 261). После «Феноменологии» Гегель с оговорками, но возвращается к языку прежней философии, также доводя его в «Логике» (хотя в этой ипостаси Гегель – «талант», а не «гений») до последнего совершенства, как если бы после Канта она еще могла возродиться!
Между прочим, влияние именно эстетической сферы на будущую «Феноменологию» осознавал и сам философ. Так, в наброске письма к гейдельбергскому филологу Фоссу (набросок письма относится, предположительно, к маю 1805 г., т.е. к тому времени, когда Гегель, по-видимому, начинал работу над своим произведением) Гегель пишет о своем желании «…вести курс еще по одной из специальных философских дисциплин, который в Гейдельберге никто, кажется, не ведет, – по эстетике в виде cours de literature – мечта, которую я давно лелею и которую я осуществил бы с еще большей охотой…» (Гегель, 1973, с. 248). Даже беглое знакомство с «Феноменологией» показывает значимость для Гегеля именно формы выражения мысли. Г.Г. Шпет говорит о «языке заметно яркого стиля»: «…тяжеловесный и в то же время выспренний, архаичный по составу и смысловому значению слов, вдруг прерываемый метким афоризмом, смелым сочетанием слов и почти публицистической риторикой» (Шпет, 1959, с. XLVII). Екатерина Аменицкая, одна из переводчиц, выполнившая под редакцией Э.Л. Радлова подготовку первого русского издания «Феноменологии духа» и написавшая к нему вступительную статью, верно замечает, что форма изложения произведений Гегеля «органически связана с характером излагаемых мыслей», «в изложении чувствуешь глубокую борьбу и страдание Гегеля» (Гегель, 1913, с. IX). Но, продолжает она, «когда Гегелю удавалось найти соответствующее выражение для своей мысли, оно, действительно, вскрывало ее глубочайший внутренний смысл и ярко освещало суть вещи… "Феноменология духа" отличается богатством воображения и силой выражения, соединенной с красочностью и образностью. Э. Кэрд характеризует "Феноменологию" как "единую мысль, воспламеняющуюся от быстроты и напряжения собственного движения"» (Гегель, 1913, с. X).
В качестве подтверждения этих оценок и значимости осмысления нашедших в них отражение характерных черт текста «Феноменологии» можно было бы сослаться на то место книги, которое, пожалуй, ярче всего свидетельствует о значимости художественной формы выражения для понимания самого существа гегелевского произведения – на его замечательный образ Девы-Судьбы, которым он резюмирует свое учение о и познании истории культуры (Гегель, 1959, с. 400, 401). (Неслучайно именно этот обширный фрагмент цитирует в своем труде о Гегеле М.Ф. Овсянников, подчеркивая, что для выражения своих мыслей «Гегель нашел исключительно пластинные формы, и здесь он возвышается до высот поэзии» (Овсянников, 1959, с. 44).) И если даже у Гегеля, мыслителя, чуждого всякого стремления «украсить» мысль, художественное измерение текста оказывается ничуть не менее важным, чем собственно концептуальное, то это обстоятельство лишь демонстрирует значимость затронутой у нас проблемы, а наш сегодняшний интерес к ней – и то, что ее удовлетворительное решение до сих пор не найдено.
Вернемся, однако, к тому, что философия традиционно недоверчиво относилась к слову; порой при чтении философских сочинений прошлого складывается впечатление, что их авторам трудно было поставить точку, сказанного казалось недостаточно, и они продолжали свою речь, что-то бесконечно разъясняя и уточняя… Какая глубокая интуиция жила в подобном отношении философов к языку как средству выражения мысли, как трудно, действительно, замкнуть мысль поверхностью звуков или оставленных движением руки линий! Как трудно избежать читательского непонимания, фальсификаций, извращений и как трудно, прежде всего, увидеть в собственном, постепенно заполняющем пространство чистого листа тексте, то, что соответствовало бы внутренне переживаемой мысли, осознаваемому содержанию, сконструированному из частичек мгновенных мысленных образов! И наконец, насколько трудным оказывается философское творчество сегодня, когда не только новые формы социальности выталкивают философию на периферию культуры, но когда, по видимости, ее противником оказывается сам научно-технический прогресс, одинаковым образом покрывающий равнодушной к смыслу «цифровой сетью» все феномены сегодняшней жизни – от распространяемых средствами массовой информации сплетен до отобранных самой историей интеллектуальной культуры человечества шедевров литературы.
Бытование философских текстов в современной культуре
Состоявшийся в прошлом веке «лингвистический поворот» может рассматриваться как некий «Gegenstoß» со стороны языка, который, возможно, не столько нуждался в «принудительной тематизации» («проблема языка» – это не «одна из» философских проблем), сколько в прояснении отношения к мысли и параллельно продумывании философией своей собственной природы; однако тема эта в литературе последних двух столетий (не без влияния позитивистской идеологии) выглядела излишне архаичной для того, чтобы стать предметом активного обсуждения. И вот именно в этой ситуации кризиса, т.е. неопределенности в понимании своей природы и возможностей используемых ею средств, философия попадает в новые условия существования, существенно изменяющие все обстоятельства бытования философских текстов. Эти изменения касаются процессов их порождения, трансляции, восприятия. Остановимся первоначально на последнем из указанных аспектов, преобразующем доминирующий характер прочтения философских текстов. Прежде всего, объем формально доступных читателю текстов катастрофически растет. Благодаря Интернету возникает иллюзия доступности любого элемента философского знания, а словари и справочная литература (большая часть которой страдает шокирующим непрофессионализмом) подкрепляют эту иллюзию эффектом «понятности». А что на другой стороне состоявшейся революции в способах хранения и передачи информации? Прежде всего, заметим, что мотив к чтению философских текстов не является чем-то естественным, рождающимся из самой жизни или даже из того образования, которое получает большинство молодых людей сегодня. Если вдруг – «вдруг» – их внимание падает на страницу философского текста, какой оказывается эта страница? Вероятность того, что в результате хаотического блуждания по информационной паутине состоится осмысленное прочтение глубокого, занимающего важное место в истории культуры, философского произведения, пожалуй, не больше, чем… вероятность рождения гения. Нечего и говорить, что подобное «интернет-образование» в философии не может оказаться более плодотворным, чем в математике или горном деле, но видимость доступности философских текстов, написанных «почти понятным» языком, вкупе с бросающейся в глаза экзистенциальной насыщенностью большинства из них… делают свое странное дело. Поверхность океана философии, хранящего в своих глубинах сокровища, которым противопоказаны блеск нескромных, жаждущих лишь славы обладания, глаз и болтовня невышколенных языков, густо покрывается обломками недочитанных «Бердяй Булгаковичей», окрашенных в цвета Лакана и Делеза, на основе подобного «чтения» и формируется большая часть современной «философской литературы». Еще в 1999 г. Н.С. Автономова писала: «Сейчас появилось слишком много всего вне всякой логики и хронологии. И подчас выпуск таких авторов, как Лакан или Делез, без какого-либо сопровождающего аппарата или вступительной статьи, означает, что эти книги вряд ли войдут в состав культуры, в поле обсуждений. Читатель растерян, он выхватывает здесь и там случайные понятия» (Автономова, 1999, с. 118). Эта становящаяся все толще масса издающих дурной запах псевдофилософских «публикаций» вызывает отвращение опытных ныряльщиков, способных на долгие минуты лишать себя дыхания ради надежды увидеть в раковине той или иной строки то, чего нельзя увидеть «вдруг», без труда, без образования, страданий, ошибок, бесед с друзьями и учителями.
Интеренет-революция сделала философские тексты доступными, однако подобная «доступность» и затруднила их прочтение, действительное освоение. Все больше факторов способствуют сегодня тому, чтобы оно превращалось в «перелистывание»; обилие интеллектуального спама делает крайне трудным осознание логики историко-философского процесса; сплошь и рядом «общие места» принимают за открытия, случайные совпадения – за многозначительные переклички. Слова, понятные и не очень, составляют марево, плотно укрывающее мысли, для выражения которых они, кажется, были предназначены. Ясно, что не объем пролистанного определяет уровень философской эрудиции (не говоря уже о большем), напротив, неконтролируемый наплыв массы текстов, мнимая легкость их освоения препятствуют становлению у молодых людей культуры неторопливого, внимательного продумывающего чтения, которая одна только способна открыть путь в философию. Вспомним теперь о том, что занятие философией требует «держать в голове и тянуть за собой все нити». Как видим, практика чтения последних лет, напротив, препятствует тому, чтобы подобные нити вообще формировались, выстраивались. Хаотичность, поспешность чтения, ужасающий непрофессионализм комментариев к классике и большинства публикаций, становящихся макулатурой уже в момент напечатания, дополненные феноменом «отложенного чтения» (скопированное укладывается в папки, предназначенные для прочтения, понятно уже неосуществимого), искореняют сами условия существования в культуре философского сознания. Однако изменения в характере восприятия философских текстов дополняются не менее драматичными изменениями в способах их передачи.
Упомянутое выше «интернет-образование» – это дополнение к традиционному философскому образованию и изучению философии в качестве общеобразовательной дисциплины. Но и здесь как под влиянием «цифровой революции», так и в силу социальных факторов (прежде всего, влияния насаждающей формализм бюрократии от образования) происходят крайне негативные изменения. Утрачено сознание принципиальной важности роли учителя в процессе гуманитарного образования. Эта утрата – одно из следствий потери образованием личностного измерения, результат проводимого чиновниками (и почему-то безропотно принятого педагогами!) подхода к образованию как «оказанию образовательных услуг». Примитивное использование интернет-ресурсов как ящика, из которого бесконтрольно зачерпываются суждения, страницы и целые главы, затем «редактирующиеся» (механически переставляются слова и выражения с целью приспособиться к компьютерной проверке на плагиат), мирно уживается с «реформами» образования, изгоняющими из педагогического процесса личность учителя и личность ученика.
В прошлое уходит не только практика вдумчивого чтения, «беседы с книгой», не только практика заинтересованного личностного общения учителя и ученика по поводу прочитанного, в прошлое уходит и творческое отношение автора к своему труду. Большая часть современной отечественной философской литературы написана… нет – «составлена» с использованием алгоритма «выделить — копировать — вставить». «Цифровые технологии» при этом закрепляют тенденции, которые, конечно, инициированы не ими, а сложились внутри самого философского сообщества или, точнее, на той его «периферии», которая стремится быстрее и легче пробраться «внутрь»; компьютерные технологии оперируют со «знаками», а не со «смыслами», они только создают внешние условия, при которых в философии становится легче скрыть отсутствие внутреннего содержания речи, соотнесенности ее элементов с «концептами», для восприятия, переживания и осмысления которых нужна… душа, а не компьютер. Вспомним, что предметом философии является «невидимое», оно воспроизводится в уме – если ум держит все нити, ряды мыслей, собирает в целое те связи, которые отдельные слова (первоначально иносказательно, а затем – становясь специальными терминами) формируют в сфере смысла. Лишь постепенно, через накопление многочисленных определений, доказательств, разъяснений и других дискурсивных процедур («язык философии») складываются некие «ячейки смысла», обнаруживаемые в своей душе читателем под влиянием бесед с философами или чтения философских сочинений. Вот этот крайне сложный и тонкий интеллектуальный процесс и вытаптывается в обществе, в котором господствуют дополняющие друг друга бюрократия от образования и «цифровые технологии»! Остается ли в нем еще место для философии?
Но может ли, в самом деле, технический прогресс быть противником культуры? История убеждает, скорее, в том, что подобные кризисные состояния оказываются недолговременными и через конфликт и спровоцированную им работу по переосмыслению собственных оснований и видоизменению форм существования в конечном счете способствуют развитию культуры. Во всяком случае, письменность и книгопечатание – более фундаментальные перевороты, чем «цифра» и Интернет, – в свое время послужили поводом для кризисов, но в дальнейшем стали и фундаментом для новых достижений культуры. В каком направлении должна меняться философия, чтобы сохранить себя в изменившемся пространстве культуры? Сегодняшний кризис побуждает задуматься, прежде всего, над тем, как вернуть в составляющие философский текст знаки улетучивающийся из них смысл. Прежние способы работы философа со словом, когда категории играли роль сторожевых башен, а между ними протягивалась колючая проволока доказательств и классификаций, сегодня не работает. В современных формах культуры и коммуникации внутреннее содержание знака выхолащивается, смысл ускользает «из-под пера» (?!) философа. Знаки-подобия заполняют восприятие, топят голос философии в многочисленных, многократно перекрывающих друг друга шумах. Философ, субъект философского высказывания, просто не может быть узнан в толпе механически воспроизводящих слипающиеся серии подобий роботов.
Философское письмо перестало быть выражением субъективности, а ведь мы-то по-прежнему стремимся воспринимать его именно в этом качестве! Великие события и в истории культуры (по слову Гете и Моммзена, кажется, имеющему шотландскую предысторию) выбрасывают вперед свои тени, и это преобразование отношений между текстом и его создателем, предугаданное и опробованное экспериментаторами в начале прошлого века (футуристы, русские «формалисты», структуралисты), сегодня оказалось ужасающей повседневностью. Теперь философскую литературу «делают» – как тут не вспомнить о «фарсе» из «18 брюмера»(?!), – «составляют» из утрачивающих связь с мышлением знаков, уже не нуждающихся в уме ни как том, кто «держит», ни в самом месте пребывания, «со-держания» («облако»).
Человек, который захотел бы заново присвоить себе философское письмо, должен был бы не только преобразовать традиционный философский язык со всеми его привычными инструментами, но должен был бы научиться «сгущать мысль», давать ей пластичную и абсолютно уникальную формулировку, подобно упомянутому гегелевскому образу Девы-Судьбы, сохраняющему за своей художественной поверхностью, «блестящей кожей», всю добытую феноменологическим движением структурность мысли, ее содержательную сложность и глубину. А.П. Алексеев справедливо указывает на общую недооценку роли выразительных возможностей философского текста, на сведение его функции к посредничеству между «идеями», «концепциями» автора и читательским восприятием проблем; текст «отступает на второй план, а то и вовсе исчезает из виду» (Алексеев, 2011, с. 42). Поскольку философские произведения, подобно стихам, состоят «из слов», а не только «из мыслей», то и разрыв между «идеями» и их выражением в языке сегодня может быть преодолен не нагромождением уже бессильных определений и силлогизмов, а нахождением для каждой мысли индивидуально очерчивающего и передающего его «философского слова» – подобно тому, как находит свое слово поэт, для которого, согласно замечанию Новалиса, «…язык никогда не бывает слишком беден, но всегда слишком общ» (Новалис, 1914, с. 29, 30). Жизнь поэзии – это история всегда индивидуального, неповторимого, а потому и «гениального», преодоления этого фундаментального изъяна языка, который в границах философии классической эпохи, как правило, оказывался в тени «божественной природы речи», а в современной культуре, напротив, сокращает ее возможности. Статья В.В. Розанова о К Н. Леонтьеве начинается словами: «Все-таки – ничего выше поэзии, ничего выше – в смысле точности, яркости контуров очерчиваемого предмета» (Розанов, 2014, с. 1094). Может ли сегодня речь философии овладеть подобным мастерством индивидуализирующего выражения — «очерчивания» мысли? Неслучайно ведь даже в арсенале мыслителей, у которых преобладает, безусловно, «логика», мы стремимся видеть сегодня и «образы» и пытаемся понять их значимость для философской мысли. Конечно, сближение философии и художественной литературы – это вообще характерная черта мировой культуры последних десятилетий, однако плодотворной эта ситуация оказывается пока для художественной литературы, а не для философии, которая, напротив, «растворяясь в литературе», рискует утратить свою исконную природу, а значит, и особое место в культуре. Но если философии суждено сохраниться и в наступившем веке, то, не отступая от своей природы, она должна будет научиться, как и поэзия, бесконечно ценить каждое подлинное свое творение – открывающую и осознающую себя в слове уникальную мысль.
1. Автономова Н.С. Заметки о философском языке: традиции, проблемы, перспективы [Текст] / Н.С. Автономова // Вопросы философии. - 1999. - № 11.
2. Алексеев А.П. Образная ткань философского произведения (к вопросу о сопоставлении философии и литературы) [Текст] / Н.С. Автономова // Вопросы философии. - 2011. - № 11.
3. Вайнштейн О.Б. Язык романтической мысли. О философском стиле Новалиса и Фридриха Шлегеля [Текст] / О.Б. Вайнштейн. - М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1994. - 80 с.
4. Васильева Т.В. Афинская школа философии. Философский язык Платона и Аристотеля [Текст] / Т.В. Васильева. - М.: Наука, 1985. - 160 с.
5. Власов А.Д. Словарь по философии Гегеля (Феноменология духа) [Текст] / А.Д. Власов. - М.: МИФИ, 1997. - 540 с.
6. Гегель Г.В.Ф. Письма [Текст] / Г.В.Ф. Гегель // Работы разных лет. - Т. 2. - М.: Мысль, 1973. - С. 211-528.
7. Гегель Г.В. Феноменология духа [Текст] / Г.В. Гегель. - СПб.: Типография Акц. Об-ва «Брокгаузъ-Ефронъ», 1913. - 377 с.
8. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа [Текст] / Г.В.Ф. Гегель / Сочинения. - Т. IV. - М.: Государственное издательство социально-экономической литературы, 1959. - 440 с.
9. Коротких В.И. Классическая философия в современной культуре [Текст]: монография / В.И. Коротких. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. (Научная мысль).
10. Коротких В.И. "Феноменология духа" и проблема структуры системы философии в творчестве Гегеля [Текст]: монография. - М.: НИЦ ИНФРА-М., 2015. - 383 с. (Научная мысль).
11. Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля [Текст] / А.Ф. Лосев. - Киев: «Collegium», «Киевская Академия Евробизнеса», 1994. - 288 с.
12. Мамардашвили М.К. Кантианские вариации [Текст] / М.К. Мамардашвили. - М.: Аграф, 2002. - 320 с.
13. Новалис. Генрих фон Офтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе [Текст] / Новалис. - СПб.: Евразия, 1995. - 240 с.
14. Новалис. Фрагменты в переводе Григория Петникова. I [Текст] / Новалис. - М.: Лирень, 1914. - 32 с.
15. Овсянников М.Ф. Философия Гегеля [Текст] / М.Ф. Овсянников. - М.: Государственное издательство социально-экономической литературы, 1959. - 305 с.
16. Розанов В.В. О Конст. Леонтьеве [Текст] / В.В. Розанов и К.Н. Леонтьев / Материалы неизданной книги «Литературные изгнанники». Переписка. Неопубликованные тексты. Статьи о К.Н. Леонтьеве. Комментарии; сост. Е.В. Ивановой. - СПб.: Росток, 2014. - 1182 с.
17. Шпет Г.Г. От переводчика [Текст] / Г.Г. Шпет / Гегель Г.В.Ф. Соч. - Т. IV. - С. XLVI-XLVIII.