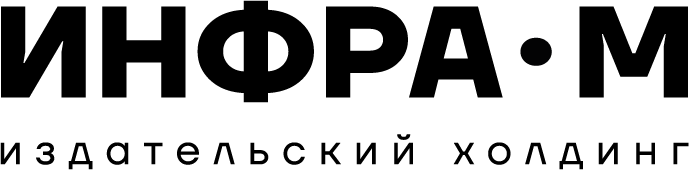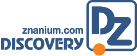Россия
Статья привлекает исследовательское внимание к теме философия глагола и освещает ряд её аспектов, в частности – вопрос о конкуренции между именем и глаголом в грамматике, а также о способности грамматической формы создавать дополнительные смыслы. В сопоставлении временных парадигм глаголов выявляются различия между общей и частными грамматиками, определяющие место отдельных языков в общей системе.
философия глагола, философия имени, частная и общая грамматики, verbumgenerale и verbumtemporale, грамматическая полисемия
В настоящие годы исполняются вековые юбилеи двум знаковым трудам с одинаковым названием «Философия имени», написанным выдающимися русскими философами С.Н. Булгаковым (С.Н. Булгаков писал свою работу в 1919–1923 гг., но опубликована она была только в 1953 г. в Париже) и А.Ф. Лосевым (А.Ф. Лосев завершил свой труд в 1923, а опубликовал в 1927 г. в Москве), тогда как с момента выхода первого номера «Филологических записок» минуло 60 лет. На фоне этих круглых дат обращение к теме философия глагола выглядит вполне символичным и представляется продолжением научной традиции. Оба эти труда возникли на волне имяславских дискуссий, захвативших воображение российских мыслителей того времени, и были посвящены с л ов у, в котором, прежде всего, распознавалось имя, тогда как глагол оставался на втором плане.
Как известно имя и глагол являются основными самостоятельными частями речи, но если о философии имени написана уже не одна сотня страниц, философия глагола остается до настоящего времени нетронутым научно-понятийным пространством, что хоть и безмолвно, но красноречиво свидетельствует об актуальности темы, особенно в связи с вышеупомянутыми юбилеями.
К философии языкознания вообще обращались многие европейские лингвисты XIX в., чьи труды на протяжении десятилетий издавал А.А. Хованский в «Филологических записках». Уже в первых номерах были опубликованы переводы рассуждений Карла Беккера о проявлении философии в слове и языке: «Язык есть проявляющаяся мысль, а слово – воплощенное в звуках понятие. Работа мысли и настоящая задача мыслящего духа состоит только в том, что дух при помощи чувств воспринимает в себя видимый мир и посредством органического усвоения переделывает реальный мир вещей в духовный мир мыслей и понятий. <…> Самая высшая противоположность, разнообразно повторяющаяся во всех соотношениях природы, есть противоположность действия (духа) и бытия (материи); в языке [она] проявляется, как противоположность понятия и звука; противоположность логической и фонетической стороны есть самая общая противоположность в организме языка; [диалектика] понятия и звука составляет в языке органическое единство» [2].
Примерно в том же духе рассуждает полвека спустя и С.Н. Булгаков: «Слово имеет не только звуковую форму, но и содержание, оно имеет значение, таит в себе смысл. И этот смысл вложен в звук, срощен с его формой, вот – тайна слова» [4]. С этих же общепринятых мыслей начинает свой magnumopus и А.Ф. Лосев: «Имя есть прежде всего звук, – но тут же замечает. – В дальнейшем мы увидим, что сущность имени ничего общего не имеет со звуком. <…> Ближе к [подлинной] сущности продвинемся мы тогда, когда проанализируем структуру значения имени». При этом философ предупреждает, что грамматическая сторона слова сюда не относится [10].
Как можно заключить из вышесказанного, начала философии имени общепризнанно определяются духовно-материальным противоречием звуковой формы и смысла слова (структуры значения) в рамках лексики, в то время как философия глагола в большей мере касается синтаксиса и грамматики в целом.
Размышляя над проблемами философии в начале ХХ в., Бертран Рассел замечал, что основными понятиями великих философов античной школы были универсалии, выражаемые существительными, такими, как идея, материя, диалектика, закон, единство, бытие, «тогда как обозначаемые глаголами и предлогами обычно упускаются из виду. Даже среди философов широко признаются только те универсалии, которые обозначаются именами прилагательными и существительными, тогда как обозначаемые глаголами и предлогами обычно упускаются из виду. Этот пропуск имел очень большие последствия для философии; без преувеличения вся метафизика после Спинозы преимущественно определялась этим обстоятельством» [12]. Вообще выпадение из фокуса исследовательского внимания философского содержания грамматико-семантических форм представляется одним из общих упущений в размышлениях о языке в целом и об общей грамматике в частности. Философы, как правило, оставляют без внимания грамматические значения понятий, а ограничиваются лексикографическими, т.е. структурой значения имён, оставляя грамматику не у дел. Между тем способность грамматических форм предикатов определять контекстуальные значения субъектов и выражать конкретные смыслы представляется едва ли не самым существенным вкладом грамматики (как искусства построения речи) в философское рассуждение.
Облекая слова в грамматическую форму, грамматика снабжает их дополнительными смыслами. Проявленные в формах слов и словосочетаний грамматико-семантические отношения отражают не конкретные предметы и явления, а общие признаки и классы, которые соотносятся с логической формой мышления, универсальной для человечества, хотя и выражаемой средствами разных языков и их грамматик. Иначе говоря, логика служит основой организации рационального мышления, тогда как грамматика является основой организации языка как средства его существования и самовыражения. Грамматика, однако, не сводится только к выражению логической формы мышления, а организует язык в целом, опосредуя выражение элементами языка не только рационального, но и эмоционального сознания [1]. Хотя речь и представляется проекцией мысли («Язык есть выражение мыслящего духа», «громко высказывающийся ум» [6]), человек, как правило, более избирателен в искусстве речи, чем в искусстве мышления, поскольку не каждую возникающую в уме идею выражает в речи, т.е. форму речи обретает далеко не всё, что мыслится. Это значит, что искусство речи, а тем паче грамматическое, является более изысканным, следовательно – чем-то большим, чем искусство мышления [22].
Отмеченное противоречие духа и материи (смысла и звука) есть проявление философии в слове как в имени, тогда как философия глагола обнаруживается в отношениях смысла и времени, выражаемых грамматическими формами глагола. Имена не изменяются по временам, и выяснить отношение имени со временем или вечностью помогают глаголы, содержание временных парадигм которых определяется логикой (социальной, философской или богословской). Характер спряжения субъекта со временем определяется именно грамматической формой глаголов. В свою очередь, наличие или отсутствие тех или иных форм служит критерием в различии грамматик – общей и частных.
В философском отношении различают грамматики: общую – имеющую логическую природу и относящую к сфере своих интересов выявление общего в человеческом мышлении, в силу чего служащую орудием познания [27], и частную – ориентированную на особенности отдельных языков и связанную с национальными традициями, влиянием окружающей среды, социальными условиями и т.п. Универсальные принципы грамматики присущи всем языкам, поэтому их истинность устойчива, истинность же частных принципов имеет силу среди принявших их, «но при этом не потерявших права от них отказаться, когда обиход предпочтет их модифицировать, или вовсе отменить» [3]. Таким образом, одна и та же форма в различных временных отрезках и контекстах актуализирует разные значения, а определение однозначного смысла зависит от дискурс-образующей позиции. «Общая» грамматика выявляет общее в языках, тогда как «частная» служит языком «контрастирующего» описания, выражающим частное на фоне общего и общее на фоне частного [14]. В сопоставлении общей и частных грамматик решается высшая, по мнению авторов «Филологических записок», философская задача языкознания – «характеристика и классификация языков по их внутреннему характеру, по их существенной особенности, из чего произошла бы система языков, в коей каждый язык имел бы определенное место, как своеобразная степень и форма осуществления словесной идеи» [6].
К числу философских проблем языкознания можно отнести и вопрос приоритета имени перед глаголом или наоборот. В переводах трудов ведущих европейских учёных Макса Мюллера, Георга Курциуса, Карла Гейзе, Карла Беккера и др., опубликованных в журнале А.А. Хованского, можно обнаружить различные взгляды на эту философскую проблему филологии. В «Системе языкознания» К. Гейзе рассуждал следующим образом: «Совершенно ложно было бы представлять себе предложение наружно составленным из отдельных слов, и, стало быть, думать, будто бы речь начинается простым нарицанием». (С.Н. Булгаков также считал, что имя есть первоначально сказуемое, потому что «не может быть слов, которые бы по самой природе своей или изначальному смыслу, были именами существительными, в отличие от глаголов и прилагательных. Напротив, сказуемость предшествует номинативности» [4].) Слова имеют силу не только нарицательную, напротив, произнесенное слово, содержащее в себе главное представление, способно заменять целую речь: «В слове ребенка «essen!» заключается целое предложение: «ichwillessen», только в ещё не развитой форме. Таков и корень как самое первоначальное слово» [6]. О приоритете глагола пишет и К. Беккер в «Организме языка»: «Все коренные слова в языке есть глаголы, и все коренные слова суть понятия деятельности» [24]. В том же духе замечает и Георг Курциус: «Чтобы открыть основное представление в известном семействе слов, нужно заметить, что особенную важность имеет добывание его из глагола» [9]. С чем, впрочем, не соглашался В. фон Гумбольдт, утверждая обратное: «Коренные слова отнюдь не могут считаться глаголами, ни даже глагольными понятиями» [6].
Вопрос о приоритете между именем и глаголом, несомненно, относится к числу философских настолько, что его не без доли иронии можно назвать основным философским вопросом филологии. Замечательно проиллюстрировал этот философско-синтаксический конфликт Андреа Гварна в оригинальном учебнике «Грамматическая война» (1511), сюжетная линия которого замешена на соперничестве за приоритет между основными частями речи. В одной из драматических сцен, приведших царство Грамматики к потере суверенитета, Существительное настаивало на своей древности перед Глаголом, апеллируя при этом к Св. Писанию: «Бог создал все вещи, а среди них создал также и Глагол. А Бог есть Имя (Существительное), не Глагол». На что Глагол возразил ему следующее: «Но не единственный же ты у нас тут эксперт в словесности: я удержу власть, которая мне причитается, обосновав её тем, что говорится весьма ясно в этих самых писаниях. Процитирую начало главы из древнего текста, где сказано: "В начале было Слово (Verbum), и Слово было у Бога, и Слово [Verbum] было Бог". Навостри уши, чего морщишься? "И Глагол – говорит он, – был Богом, Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть". Так что это не Существительное создало всё, а Глагол, и Бог был Глаголом, а не Существительным, и Глаголом Бога укреплены небеса» [13].
Сюжетная интрига учебника А. Гварны основана на расхождении в переводах Евангельских текстов на разные языки. При сравнительном взгляде это различие особенно заметно: в латыни verbum – это глагол, а в немецком, русском и церковнославянском – это имя существительное:
ℑ𝔫𝔭𝔯𝔦𝔫𝔠𝔦𝔭𝔦𝔬𝔢𝔯𝔞𝔱𝔙𝔢𝔯𝔟𝔲𝔪;Искони бѣСлово;
Im Anfang war dasWort; В начале было Слово.
Возможность для двусмысленного перевода и толкования здесь обусловлена тем, что в латыни различаются verbumgenerale и verbumtemporale, и первое понимается как слово вообще, а второе – как глагол – слово высказанное или слово временное. Вот в этой связки слόва со временем в verbumtemporale проявляется философия глагола и её грамматико-семантическое содержание. И именно тот факт, что глагол в отличие от существительного изменяется по временам (а время является общей категорией и для философии, и для богословия, и для грамматики), привлекает исследовательское внимание.
На связи глагола со временем основана способность грамматической формы создавать дополнительные значения, особенно у так называемых «широкозначных глаголов», определяемых исследователями как фундаментальные [15]. В первую очередь, это касается глагола быть (быти), многозначность которого проявляется и лексически, и грамматически [23].
В представленной выше таблице переводов Евангельских текстов обращает на себя внимание не только диалектическая полисемия 𝔙𝔢𝔯𝔟𝔲𝔪, но и грамматическая форма церковнославянского глагола быти – бѣ, способная, по мнению богословски ориентированных грамматистов, выражать «состояние вообще, без указания на предел длительности» [8], тогда как на русский и немецкий это переводится как простая форма прошедшего времени, обозначающая свершившийся факт.
Здесь необходимо заметить, что по поводу грамматико-семантического содержания формы имперфектного аориста у фундаментального глагола быти существуют разные мнения. Например, В.М. Живов и Б.А. Успенский в «богословской грамматике» не обозначали у формы имперфектного аориста бѣ начало, конец и длительность состояния, тогда как Л.И. Маршева на ряде примеров показывает, что в иных контекстах эта форма выражает «сущее действие, которое происходило в прошлом много раз, длительно, повторялось» [17]. При этом учёные единодушны в том, что значение этого бытийного действия нельзя интерпретировать чисто грамматически и что уяснить разницу между стандартным и имперфектным аористом помогает контекст, который зависит и от языкового регистра [16], и от экстралингвистической маркированности и мотивированности (литургической, общеисторической и т.п.). По мнению американского исследователя грамматики и переводчика Нового Завета Арчибальда Робертсона, решающим фактором в определении точного значения любого аориста является контекст [27]. (Вероятно, поэтому во многих славянских языках он оказался избыточным. – Прим. ред.)
Вопрос о точном соответствии грамматической формы однозначному богословскому содержанию уже не один век остается в дискуссионном поле и обусловлен рядом факторов, в частности диахронической полисемией – изменением содержания понятия в различные исторические периоды [21]. В отечественной традиции разногласия в понимании грамматических форм вылились в дискуссию, известную в научной литературе как «Языковая полемика XVI-XVII веков». О предпосылках самого существования этих форм «хорошо известно, что они обязаны своим возникновением не столько филологическому любопытству или стремлению к национальной идентичности, сколько мотивированным языковой проблематикой спорам о правой вере» [18].
Богословская логика требовала специальной грамматической формы для спряжения деяний Вечносущего со временем. Согласно этой логике в литургическом языке должна быть грамматическая форма, передающая значение безначальности и бесконечности, присущей Богу, а не твари: «Одни формы глагола соотносятся со всегдашним временем, а другие – с временем преходящим, одни формы этого глагола могут расцениваться как относящиеся к Богу, в противопоставлении другим, приличествующим только тварному, и т.п.». («Можно предположить, что от Иоанна Экзарха идет по крайней мере связь оппозиции временных форм с противопоставлением Бога и твари: к Богу относятся формы имперфекта, к твари – формы аориста. У Иоанна Экзарха оппозиция временных форм интерпретируется как противопоставление «всегдашнего» времени и времени собственно прошедшего, аористного. У Зиновия же оппозиция, как кажется, строится другим образом: к Богу относится не только имперфект, но и имперфектный аорист, обе эти формы противопоставляются перфектному аористу, и это противопоставление интерпретируется как различие между обозначенным и необозначенным началом процесса: аористу приписывается инхоативное значение, и именно поэтому он оказывается неприложим к не имеющему начала божественному бытию. Таким образом, оппозиция подвергается переосмыслению <...>Там, где русские книжники говорят о тех же формах, они приписывают им другие значения, а там, где они обсуждают те же значения, они соотносят их с разными формами» [7]).
Согласно характеру традиционной образованности, сложившейся под влиянием греческой грамматической традиции, средневековые восточнославянские (учёные) грамматисты дифференцировали формы бѣаше, бысть и былъеси семантически: первой форме приписывается состояние без начала и конца, второй – инхоативное значение, а третьей – значение завершившегося в прошлом состояния [16]. Если форма былъеси касалась завершившегося во времени процесса, актором которого мог быть любой субъект, то бѣаше и бѣ способны выражать метафизический модус бытия Субъекта вечного (безначального и бесконечного или вневременного [25]).
Такое требование к грамматике выдвигает богословский контекст и таким образом промышляется построение временной парадигмы. Разумеется, грамматика языка, оперирующего специфическими богословскими (метафизическими) понятиями, нуждается в исчерпывающе выразительных формах, способных сообщать дополнительные смыслы, не прибегая к перифразу. Так, богословская логика обеспечивает литургическую грамматику средствами, необходимыми для выражения сакральных смыслов. Применение грамматической формы для описания вечно сущих деяний (само подразумевание подобного содержания формы в грамматическом арсенале) служит маркером текста и его функционально-семантического поля и создает контекст, уточняющий значения многозначных слов.
Подобное понимание связи между теологией и грамматикой характерно и для латинской традиции. Например, в комментариях к грамматике Пор-Рояля аббат Фроман отмечал, что в теологической части грамматики подразумевается наличие различных форм для описания Божественного бытия и бытия тварей Божиих [3]. Комментатор пытался восстановить утерянную в XVIII в. связь грамматических и богословских категорий, лежавшую в основе «Грамматики Пор-Рояля», за которой стояла «Теология» – сочинение более древнее и имеющее для церковного канона преимущественное значение [19].
В таком же контексте, видимо, следует понимать и слова Людвига Витгенштейна, который, цитируя Мартина Лютера, писал: «Теология – это грамматика слова ‘Бог’». В этом отношении интересно замечание Д. Мануссакиса о всего двух упоминаниях теологии автором «Логико-философского трактата», предпочитавшего молчать о том, о чём невозможно высказаться: «Сами по себе слова не дают знать, как понимать слова (Теология)» и «О том, какого рода объектом является нечто, дает знать грамматика (Теология как грамматика)». Имеется в виду, что грамматика охватывает высшие, «богооткровенные» законы мышления, которые предписаны языку в виде аксиоматических правил и обычно не подлежат осознанию и обсуждению. При этом в последней фразе автор указывает на небольшое, но очень красноречивое различие: «О том, какого рода объектом является нечто, дает знать грамматика». <...> Невнимание к такому пониманию грамматики может выражаться в путанице относительно объекта богословия, когда Бога принимают за объект теологической спекуляции, упуская категориальное различие» [11].
Наличие глагольных форм, «приличествующих Творцу, но не твари», создает частную богословскую грамматику литургического языка (его регистра [16]), формирует «внутренний характер», способствующий «осуществлению словесной идеи», и определяет его место в общей системе языков. Именно способность глагола к сопряжению с вечностью, выражаемая грамматической формой, может служить ключевым критерием в различии между содержанием частной богословской грамматики и частными грамматиками национальных языков. Но поскольку общая философская грамматика ориентирована на выявление общего (универсального), специфические частные элементы выходят за границы её компетенции и достаются теологии. Таким образом, общая философская грамматика оказывается беднее в выразительных средствах, чем частная богословская. А это значит, что и язык философии беднее языка теологии, по крайней мере, в грамматико-семантическом отношении.
Если же рассматривать временную парадигму глагола в теоретическом плане, представляется, что философская грамматика должна располагать средствами, наиболее подходящими для живописания и бытия вечного, и всегдашнего, и временного. Но поскольку частные грамматики национальных языков этими формами не располагают и в них не нуждаются, включение подобных категорий в общую философскую грамматику превращало бы её из общей в частную, богословскую.
И здесь мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: казалось бы, философская грамматика должна быть общей – т.е. всеобъемлющей, но в таком случае она перестает быть общей – т.е. универсальной. Следуя мысли Платона, разделявшего бытие и становлени е[26], предполагается, что философская грамматика должна иметь специальные формы для описания: сущего вечно (нерожденного и несозданного); сущего всегда (сотворенного, но не подверженного гибели) и временного (возникающего, существующего и погибающего). Но такую грамматику невозможно признать общей, т.е. выражающей универсальные модели мышления, и следует считать не наукой (science), а искусством (art); именно – произведением эллинского нематериального искусства, недоступного варварам в силу своей уникальности, а не универсальности... Затем уже возникает требующий специального прояснения вопрос об уникальности или универсальности (греческого) философского языка, однако вопрос это выходит далеко за рамки настоящей статьи, как и другой вопрос – не только о философии, но и о теологии глагола.
Итак, частная богословская грамматика по своей исконной сущности обязана обладать оперативным инструментарием для более искусного и изящного выражения невыразимого, коего лишены частные грамматики национальных языков. Потенциальная способность к сопряжению вечности со временем служит маркером богословской грамматики литургического языка и помогает определить место языка в общей системе языков. Элементы церковной грамматики явно указывают и дают понять, что речь идет о боговдохновенном тексте, в котором акторами выступают (метафизические) субъекты, обладающие особыми свойствами в отношении времени. (Лучшим образом, по мнению ещё одного именитого автора «Филологических записок», ак. Н.И. Кареева, вечное можно определять в контексте понятия супранатуральное, т.е. как абсолютно бестелесное, а потому и неподверженное тлению, в отличие от всего телесного и временного, т.е. тленного.)
Содержание понятия философия глагола состоит в способности грамматической формы выражать связь субъекта со временем, тогда как в сопряжении глагола с вечностью проявляется уже теология глагола. Потребность философской грамматики в подобных формах остается в сфере дискуссионной. Должна ли метафизическая часть богословской грамматики стать частью грамматики общей философской – это вопрос, на который ещё только предстоит ответить в критических комментариях к изложенным в этой статье размышлениям.
Ответ на основной философский вопрос филологии о преимуществе имени перед глаголом имеет релятивистский характер: если в лексике приоритет имени выглядит более обоснованным, то в грамматике предпочтительнее позиции у глагола.
Описание философии глагола могло бы составить достойную тему для удовлетворения философской и филологической любознательности при подробном монографическом изучении и послужить основанием для целого грамматико-философского трактата (особенно в связи с ещё одним юбилеем – столетием «Логико-философского трактата», 1921), тогда как в этой статье философия глагола рассматривается лишь в самых общих чертах – в связи с вопросом о приоритете имени перед глаголом в грамматическом поле, а также – в связи со способностью грамматических форм глаголов создавать дополнительные частные смыслы.
1. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. - Москва, 2000. - 160 с.
2. Беккер К. Организм языка / Пер. снем. М.Х. Григоревский // Филологические записки, 1860. - Вып. 1-3.
3. Бокадорова Н.Ю. Французская лингвистическая традиция XVIII - начала XIX века: Структура знания о языке / Отв. ред. Ю. С. Степанов; АН СССР, Ин-т языкознания. - Москва, 1987. - 151 с.
4. Булгаков С.Н. Философия имени. - Париж, 1953. - 280 с.
5. Витгенштейн Л. Философские исследования, 371, 373 // Философские работы. М.: Гнозис, 1994. - Ч. 1. - С. 200.
6. Гейзе К. Система языковедения. Ч. 2 : Учение о звуках / Пер. с нем. И.М. Желтов // Филологические записки, 1870. - Вып. 4. - С. 1-38.
7. Живов В.М., Успенский Б.А. Grammaticasubspecietheologiae. Претеритные формы глагола «быти» в русском языковом сознании XVI-XVIII веков // RussianLinguistics. - Москва, 1986. - V.10. - № 3. - С. 372.
8. Иеромонах Алипий (Гаманович) Грамматика церковнославянского языка. - Москва, 1991. - С. 207.
9. Курциус Г. Состояние и задачи греческой этимологии / Пер. снем. М.Х. Григоревский // Филологические записки, 1868. - В.3. - С. 1-80.
10. Лосев А.Ф. Философия имени. - Москва, 2009. - 300 с.
11. Мануссакис Д.П. Фигуры молчания: к богословской эстетике языка / Бог после метафизики. Богословская эстетика. - Киев, 2014. - С. 189-212.
12. Рассел Б. Проблемы философии. - Новосибирск, 2001. - 109 с.
13. Хаутала С.АндреаГварна: «грамматические войны» в начале XVI века // Науки о языке и тексте в Европе XIV-XVI веков. - Москва, 2016. - С. 124.
14. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. - Москва,1985. - 336 с.
15. Друзина Н.В. Фундаментальные глаголы бытия и обладания. Функциональный и когнитивный аспекты / Дис. доктора филол. наук. - Саратов, 2006. - 360 с.
16. Живов В.М. Церковнославянский как учёный язык // История языка русской письменности. - Москва, 2017. - Том II. - С. 874-887.
17. Маршева Л.И. Церковнославянский язык и прошлое бытие / Православие.ру // Электронный ресурс: https://pravoslavie.ru/5872.html. (Дата посещения: 04.07.2021).
18. Кайперт X.Грамматика и теология: по поводу языка-объекта славянского «Трактата о восьми частях слова» // Русский язык в научном освещении. - Москва, 2008. - С. 79-98.
19. Арно А., Лансло Кл. Пор-Рояль. Грамматика общая и рациональная / Грамматика общая и рациональная, содержащая основы искусства речи, изложенные ясным и естественным образом, толкование общего в языках и главные различия между ними, а также - многочисленные новые замечания о французском языке, написанная Антуаном Арно и Клодом Лансло : В прил. заметок Ш. Дюкло // Пер. с фр., коммент. и послесл. Н.Ю. Бокадоровой ; Общ.ред. и вступ. ст. Ю.С. Степанова. - Москва, 1990. - 272 с.
20. Попова З.Д. Публикации по общему языкознанию на страницах «Филологических записок» // Материалы по русско-славянскому языкознанию. - Воронеж, 1963. - С. 171-176.
21. Стернина М.А. Лексико-грамматическая полисемия в системе языка: Опыт разработки интегральной теории полисемии // Дис. доктора филол. наук. - Воронеж, 1999. - 253 с.
22. Махариши М. Искусство речи / Искусство бытия и искусство жизни. - Москва, 2009. - С. 79-82.
23. Апресян Ю.Д. Многозначность глагола быть / Лексико-семантическая парадигматика // Исследования по семантике и лексикографии. - Москва, 2009 - Т.I. - С. 441-461.
24. Стекольщикова И.В. Философско-лингвистические взгляды Карла Беккера в свете натуралистической концепции языкознания XIX века // Вестник Челябинского государственного университета, 2012. - № 28 (282). Филология. Искусствоведение. - Вып. 70. - С. 136-142.
25. Крейг У.Л. Божественная вечность // Оксфордское руководство по философской теологии. - Москва, 2013. - С. 227-259.
26. Платон. Тимей // Собр. соч. в 4-х томах. - М., 1994. - Т. 3. - С. 421-500.
27. Robertson A. Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research. - Louisville, 1914. - 848 р.