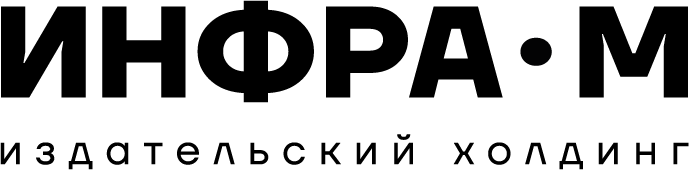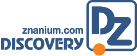Россия
В статье рассматриваются общие для философии и исторической грамматики категории вечности и времени с целью теоретического обоснования достоинств и актуальности грамматики литургического церковнославянского языка на фоне разговорных языков.
грамматика, философия, метафизика, временная парадигма, вечность
Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия,
неприятна история, сомнительна юриспруденция без грамматики.
М. Ломоносов
Специальные назидания о необходимости изучения философии вместе с «грамматической хитростью» – довольно распространенное явление в предисловиях к грамматикам. Похвальные словеса из «Сказания о седми свободных мудростех» специально подчёркивают основополагающую роль грамматики – первой из семи мудростей как «начала начал всех остальных наук и знаний» [1]. Иконически Грамматика часто была представлена (помимо женщины) в виде башни, в которой ученик метафорически поднимался по лестнице к вершине, попутно узнавая устройство здания, а чтобы достичь царства Грамматики, нужно было пересечь горы на пути к Философии и Теологии [2]. Очевидно, грамматика неспроста почиталась одним из первостепенных учёных занятий. Основания для такого первенства среди семи «свободных художеств» представляют собой объект исследовательского интереса. Одна из целей настоящей статьи: в контексте эволюционной теории развития языка, а вместе с ним и мышления, обнаружить в используемых вторичных отечественных и зарубежных источниках некоторые соответствия в представлении вечности в философских и грамматических категориях, а также рассмотреть их актуальность в современной науке и обществе.
Характер рассмотрения времени и способ включения его в систему других категорий мышления помогают распознавать различия в культурно-исторических периодах. Эволюционный взгляд на развитие мышления выявляет прогресс от самых элементарных форм мифологического мировоззрения к самым высотам религиозного и научного, философского. В соответствии с пониманием эволюционной теории развития мысли, а вместе с ней и языка, появление идеи о возможности вечного бытия следует относить к эпохе перехода от анимизма к чистому супранатурализму, т.е. к формированию представлений о возможности абсолютно бестелесного существования Духа.
В индоевропейских языках, по наблюдению Эмиля Бенвениста, идея вечности начинала обретать формы в лексике: «Хотя выражение вечности с её абстрактной специфичностью ещё не было зафиксировано в индоевропейских языках, оно стремится реализоваться через существительные, обозначающие «век», «долгий срок», и конституируемые общим индоиранским корнем ауи – гр. âion, aei, лат. aevus, aeternitatis и т.п.» [3]. Бертран Рассел замечал, что основными понятиями великих философов античной школы были универсалии, выражаемые существительными, такими, как «идея», «материя», «диалектика», «универсалия», «закон», «единство», «тогда как обозначаемые глаголами и предлогами обычно упускаются из виду» [4]. Вместе с тем временами отмечается выпадение из исследовательского фокуса философского содержания грамматических форм, что становится одним из общих упущений в философских размышлениях о языке. На недостаток такого подхода указывает Д. Мануссакис, замечая, что слово «Бог» не может быть именем «вещи», поскольку это было бы идолослужением с точки зрения религии и бессмыслицей с точки зрения философии: «Слово ‘Бог’ без языка, которому оно принадлежит, – это все равно что ‘конь’ без шахматной доски и правил игры: мы просто не знали бы, что с ним делать» и не могли бы понять: нарицательное это имя или собственное. В подобном духе можно понимать и высказывание Л. Витгенштейна, который, цитируя Мартина Лютера, говорит: «Теология – это грамматика слова ‘Бог’» [5]. Вообще, вопрос о преимуществе имени перед действием остается предметом давних споров [6].
Теоретический вопрос о способности Духа к вечному бытию рано или поздно должен был найти себе приют и в грамматическом пространстве «дома бытия», ведь в соответствии с исследованиями психологов о «смысловом синтаксировании» [7] даже не вполне умственно здоровые люди способны конструировать фразу произвольно. В таком свете можно подозревать, что грамматическая форма, востребованная логикой развития идеи, тем паче могла возникнуть по воле мудреца [8]. Разумеется, как только были определены сущностные характеристики и особенности вечности как безначальности и бесконечности или даже вневременности должны были возникнуть идеи о грамматических формах, наиболее удобных для описания специфики духовных деяний; иначе говоря, как скоро для мыслителя стал сущим абсолютно бестелесный и потому вечный субъект, должен был возникнуть контекстуальный или «жанровый» вопрос о средствах прямого выражения деяний этого вечносущего субъекта, ведь «каждый специфический информационный процесс нуждается в адекватных средствах воплощения» [9].
Таким же, примерно, образом исследования современных языковедов привели к мысли о topic-comment organization of speech, определяющей схемы построения текстов, или жанровые схемы [10]. В контексте рассуждений М.М. Бахтина Платона можно считать записным основоположником в формировании определенной жанровой конструкции или «особенного синтаксического типа» [11].
Появление грамматических представлений, прежде всего синтаксиса, относится, пожалуй, к самым началам функционирования языка как коммуникативного средства, назначением которого является выражение не только конкретных, но и абстрактных, духовных понятий, подразумевающих «особенные сферы и уровни жизненного творчества человека, которые самим фактом своего явления в человеческой жизни свидетельствуют, что духовная культура не может быть продуктом или функцией естественно-исторического и природного развития человечества». [Ведь] совершенно очевидно, что она ведет свое происхождение не «от земли» [12]. Можно назвать большое число лингвистов, полагающих, что проявление абстрактного в языке имеет приоритет над конкретным [13]. Например, Эрнест Ренан отмечал, что самый характер первобытных индоевропейских слов, собранных Максом Мюллером, «указывает на общество, совершенное в моральном отношении, и весьма малоразвитое со стороны материальной цивилизации» [14]. Вильгельм фон Гумбольдт предлагал искать глубинные истоки языка не в материальных условиях жизни, а в духовной сфере, а Эдуард Сепир считал, что возникновение языка предшествовало самому начальному развитию материальной культуры.
По мнению Н.И. Кареева, одним из ключевых критериев отличия языческих богов от единого монотеистического Бога является представление о существовании особого сверхчувственного мира: если в «Теогонии» Фейербаха греческие боги вполне телесны и совсем не отличаются от людей в своих материальных нуждах, то христианские ипостаси бестелесны абсолютно, исключая богочеловечность Спасителя. Однако «у первых христианских писателей, приблизительно до блаженного Августина, преобладало представление о духе, как весьма тонкой, но телесной субстанции» [15].
На рубеже эр центром, в котором осуществлялся симбиоз монотеистической традиции и греческой античной философии, была александрийская кафедра [16]. Христианская вечность, открытая Иринеем Лионским, с самого начала имела некоторые отличия от вечности александрийской [17]. По мнению Плотина, вечность представляется как нечто, обладающее высокой степенью достоинства и бесконечно возвышенной природой, и включает самый общий перечень составляющих её сущностей – справедливости и добродетелей. Для св. Августина вечность неотделима от Бога. Здесь Плотин и св. Августин единодушны – в вечности проявляется сущность божества: «В тварном мире добродетели конечны и ничего не стоят. В Боге они золотые, потому что они суть сам Бог» [18].
В отечественной традиции зарождение «богословско-философского» подхода к языку церкви связано с именем Ф.А. Голубинского, заложившего основу онтологической школы в русском богословии, состоявшую в учении о Бесконечном, которое есть начало всякого индивидуального акта познания, и учении о самодостоверности мышления, связанном с утверждением исходного когнитивного принципа – закона противоречия – как формального принципа рассуждений, указывающего на то, что «два противоречащих начала действия в одном действии мышления совмещены быть не могут» [19]. Метафизика, по определению религиозного мыслителя, выступает как «система познаний, которые умствующий разум через разрешение идеи Бесконечного и через применение к ней наблюдений опыта внешнего и внутреннего необходимо собирает о Существе Бесконечном и Его свойствах, равно как и о том, какое сходство или сообразность с Ним принадлежит существам конечным, как материальным, так и духовным» [20]. Исследование проблемы сходства конечного (человека) и Бесконечного (Бога) приводит Голубинского к важному выводу, сыгравшему свою роль в развитии религиозно-философской мысли в России. Признавая невозможность переноса на человека божественных характеристик, ибо некоторые из них недоступны даже праведникам в силу их абсолютности и непостижимости, мыслитель говорит о богоподобии лишь при опоре на Премудрость Божию (Софию). Определение метафизики как теоретической философии и детальная проработка её частей значительно обогатило проблематику русского духовного ренессанса, позволило преодолеть те ограничения, которые существовали в изучении языка [21].
В христианской религиозной философии учение о Духе развилось в концепцию вечного всеединого, составляющую ядро философской системы В.С. Соловьева и вобравшую в себя ведущие направления отечественной религиозной мысли. Интересные представления о структуре времен, представленной в трёх типах – космическом, историческом и экзистенциальном, можно найти в философии свободы Н.А. Бердяева [22]. Экзистенциальная категория времени у Бердяева связывает мгновение со временем небесным или вечностью, тем самым означает возможность прорыва вечности во временность посредством человеческого восприятия и воображения [23]. Экзистенциальное время символизируется у мыслителя точкой, что означает попытку внепространственного описания данной категории, придания ему измерения качественного, а не математически исчисляемо-количественного. В современной философской теологии «сущность вечности» рассматривается как возможность безначального и бесконечного бестелесного бытия либо вовсе вневременного [24].
Итак, эволюцию философской мысли следует подразумевать параллельно эволюции учения о языке. Как скоро мысль от первичных космогоний и анимистических воззрений взлетает к монотеизму, к особой форме бытия метафизического, запредельно сверхъестественного и вечно-сущего, следует предполагать и возникновение потребности для выражения этой идеи в грамматике. На основании имеющихся источников легче рассматривать развитие представлений о философском содержании соответствующей грамматической формы во вполне обозримом церковнославянском, послужившем вместе с восточнославянскими наречиями основой для современного русского литературного языка.
Проникновение греческих грамматических знаний в отечественную языковедческую традицию связано, как известно, с поздним Средневековьем. В XV в. в Московской Руси «школ в собственном смысле не было», «грамматическая литература начинает распространяться на Руси с XV-XVI вв.» [25]. Грамматическая образованность в те времена могла иметь лишь факультативный, но отнюдь не императивный характер [26]. По словам автора «Краткой летописи грамматической деятельности в России» В. Половцева, к началу XIX в. «история грамматики, сколько известно, не [была] обработана ни в одном народе» [27].
Наблюдая историю становления собственно грамматических знаний, не всегда можно обнаружить прочную связь философских и грамматических идей. Источники, использованные в настоящем исследовании, не позволяют выявить какую-то явную традицию или школу, передающую известный междисциплинарный взгляд на отношения временных философских и грамматических категорий, но в то же время рассматриваемые источники содержат достаточно красноречивые указания на ассоциативную связь грамматических категорий с философскими. В этих вторичных источниках обнаруживается спорадичная информация о привязке философской идеи вечного бытия к определенной грамматической форме.
В этом контексте обращает на себя внимание письмо Климента Смолятича, называемого в Ипатской летописи «философом, какого на русской земле не бывало», смоленскому князю Ростиславу Мстиславичу, за которое митрополит был обвинен в «философствовании», что в те времена церковью осуждалось [28]. По реакции на это письмо можно судить о церковном отношении к античным философам – и к Аристотелю, и к Платону, рассматривавшему время в контексте деления всего сущего на бытие и становление и выделявшему в связи с этим три момента: то, что существует вечно, не рождено и не создано; то, что существует всегда (сотворено, но не подвержено гибели), и, наконец, то, что существует временно (возникает и погибает).
По мнению В.М. Живова и Б.А. Успенского, ключевым глаголом в интерпретации «сущности бытия», в силу своей экзистенциальной семантики, влияющей на формулировку основных богословских положений (таких, как предвечность Отца, рождение Сына до времени, сотворение мира во времени и т.п.), служит глагол быти, его временная парадигма: «Одни формы глагола соотносятся со всегдашним временем, а другие – с временем преходящим, одни формы этого глагола могут расцениваться как относящиеся к Богу, в противопоставлении другим, приличествующим только тварному, и т.п.» [29].
Как известно, отечественная грамматическая терминология в целом восходит к понятийной базе античных грамматиков [30]. Однако уже в обществе восприемников греческих традиций Мелетия Смотрицкого и Лаврентия Зизания наблюдаются некоторые терминологические разночтения, свидетельствующие, по существу, о началах разночтений интерпретационных, известных в научной литературе как «Языковая полемика XVI-XVII вв.». Об этих грамматиках «хорошо известно, что они обязаны своим возникновением не столько филологическому любопытству или стремлению к национальной идентичности, сколько мотивированным языковой проблематикой споров о правой вере» [31].
Что касается названий времен и их философско-функционального содержания, то уже в Средневековье обнаруживаются различные интерпретации. Исследователи замечают, что, например, Мелетий Смотрицкий называет «мимошедшее» «имперфектом без контракции», а «непредельное» – «аористом», тогда как у Зизания «мимошедшее» время – «аорист». Или, например, инок Савватий, употребляя наименования «мимошедшее» и «непредельное», вкладывает в них содержание, не соответствующее тому, как они используются в современных ему грамматиках. «Видимо, сами названия времен были известны Савватию из какого-либо грамматического сочинения или просто услышаны, но значения их он не усвоил, а сами термины были переосмыслены им» [32]. Очевидно, понимание исконных значений имперфекта, аориста и перфекта утрачивалось: «Савватий явно не понимает их». Между тем некоторые источники сообщают, что в Церкви существовало определенное требование к правильности употребления глагольных форм, а за ошибку в их применении при описании деяний Спасителя можно было понести суровое наказание [33].
Размышления над содержанием этих доктринальных споров дают возможность заглянуть «в глубинные механизмы языкового сознания эпохи церковно-славянской диглоссии» [34]. Можно заметить, что грамматическая информация была собрана и систематизирована в этих грамматиках не ради неё самой, а должна была служить правильному пониманию христианского вероучения. Однако до появления светских философских кафедр невозможно было вообразить себе чисто светское философское исследование, как, впрочем, с развитием светско-философского знания сложно представить себе чисто «трансцендентально-субъективистский» взгляд на языкознание. Ведь уже в XIX в. И.А. Бодуэн де Куртенэ отмечал: «при теперешнем же положении наук языкознание методом своим и всею своею внутренней организацией принадлежит к естественным наукам» [35].
В европейскую, как и в отечественную, культурную и научную традицию античное влияние проникало вместе с христианской доктриной. Терминологию, восходящую к наследию греческих грамматиков, можно обнаружить не только в славянской, но также, например, и в английской школе [36]. Зарубежные источники указывают на афористический аорист [37] как средство выражения Абсолютной Истины или гномический аорист как «своего рода стилистический прием, направленный на то, чтобы сам слушатель мог сделать вывод: то, что было справедливо до сих пор, справедливо сейчас и будет справедливым вечно» [38]. По мнению американского исследователя грамматики и переводчика Нового Завета Арчибальда Робертсона, решающим фактором в определении точного значения любого аориста является контекст [39].
Примечательно, что автор классических произведений «высокого фэнтези», профессор филологии Оксфордского университета Джон Толкин, моделируя священный язык эльфов – квенья, представляет его служащим специальным средством выражения интеллектуальной деятельности в определенном контексте, в очень ограниченном круге лиц, обладающих определенного рода сознанием. Таким образом, складывается впечатление, что грамматика, особенно в междисциплинарном соединении с философией, относится едва ли не к самой сокровенной и недоступной для «простых смертных» области знания.
Диахронический взгляд на процесс появления и исчезновения в языках грамматических форм, служащих для описания деяний Вечного Всеединого, наводит на мысль, что вопрос этот не является исключительно хронологическим. Представляется, что и сам по себе междисциплинарный характер так или иначе способствует выпадению предмета исследования из фокуса специалистов в обеих отраслях: грамматики игнорируют философию, а философы недооценивают «грамматическую хитрость». Однако междисциплинарный характер не является единственной причиной такой непопулярности представлений о философском содержании грамматических форм: повторим, идею вечного бытия разделяют далеко не все философы, не говоря уже о грамматистах [40]. Выходит, научное и практическое бытие грамматических форм, служащих для описания вечного, обусловлено социально: проблемы сверхъестественного бытия на протяжении веков являются сферой интереса очень ограниченного круга лиц, вроде авторов редких грамматических руководств и ревностных последователей их дидактических назиданий [41].
Осмысление этой проблемы осложняется ещё и тем, что интерпретация философского содержания грамматической формы обусловлена её принадлежностью одновременно к двум смысловым уровням, ведь при двуязычии грамматическая форма так же, как и лексическая, может содержать два смысловых уровня, зависящих от соответствующего контекста, т.е. в условиях диглоссии полисемия некоторых фундаментальных териминов обусловлена не только лексически и грамматически, но и контекстуально.
Между интерпретацией высшего смысла и низшего есть свой, непреодолимый барьер: идею вневременного бытия практически невозможно донести до сознания, лишенного соответствующих представлений в оперативной мыслительной базе. Грамматика языка современной научной литературы, определяющая и формирующая оперативную базу мышления и служащая, как сказал Л. Витгенштейн, «границей нашего мира», не содержит временных категорий для непосредственного выражения деяний безначального и бесконечного. Тогда как в церковнославянском, наследовавшем греческую грамматику, имеются формы, сохраняющие идею вечности, по крайне мере, в рамках богословия и учения об исторической полисемии понятий. С другой стороны, научно-материалистическая мысль, не принимающая всерьёз идею о вечной духовности, не испытывает острой нужды в наличии таких временных форм и вполне обходится имеющимися грамматическими средствами. Так, sub specie aeternitatis, корпускула или «атомарный факт» [42] становятся «границами нашего мира», можно сказать, его оковами.
С эволюцией гуманитарного знания от теоцентризма к антропоцентризму для вечных форм не остается места ни в текстах, ни в грамматике, ни в мыслях: вместе с реформами грамматическая категория, способная непосредственно выражать деяния высшего начала, исчезает из светского литературного языка. Вспомним слова Э. Сепира о том, что «форма живет дольше, чем её концептуальное содержание, но со временем потеря содержания приводит к исчезновению формы», и что содержание может стираться: «при выборе той или иной формы мы руководствуемся более тиранией обычая, чем потребностью выразить их конкретное содержание» [43]. Можно предположить, что эволюция светской научной, материалистической мысли выразилась в инволюции светского языка, исполняющего роль интерпретационного инструмента художественной и научной, философской литературы. По существу, с развитием светского материалистического знания исчезает потребность в выражении вечного бытия в литературном языке [44]. Несомненно, такое развитие событий приводит и к потере способности адекватно осмысливать высшее знание.
По мере того как становление начало получать приоритет по отношению к бытию, вечное и неизменное стало ассоциироваться с косным, безжизненным, мёртвым. Ни в философии жизни и феноменологии, ни в экзистенциализме и герменевтике уже нет попыток постичь сущность времени из соотнесения его с вечностью [45]. Теперь же, с точки зрения педагогико-воспитательной, видится необходимым формирование представлений учащегося юношества о социальной вечности таких абстрактных понятий, какими являются справедливость, милосердие и т.п. Если, например, добродетель отдельно взятого человека можно рассматривать как временное достоинство, связанное с конечной жизнедеятельностью индивида, то добродетель как абстрактное понятие панвременна и претендует на свою собственную вечную социальную бытийность [46].
Исключение из живого языка специальных форм для описания высших понятий неизбежно приводит к затруднению в адекватном восприятии и интерпретации бытия общечеловеческих нравственных качеств, выражаемых этими абстрактными понятиями. По существу, с уходом из литературы субъектов, релятивных вечности, исчезает и потребность в грамматических средствах их выражения, которые в условиях «реалистической» литературы становятся лишним «наростом на языке».
Грамматические формы, служащие для описания вечности, становятся уделом фэнтези-литературы. Между тем подобные грамматические категории представляют собой особую инсигнию, специфический «маркер жанра», обращающий исследовательское внимание на сферу высших понятий, имеющих особенный одухотворенный смысл и специфическое бестелесное и потому вечное бытие. Ценность настоящей формы в том, что она позволяет сохранять в грамматике высокую философию, дающую рациональное обоснование абстрактному бытию, т.е. «образует каркас всего процесса семантизации действительности, продуктом которой выступают ценностно-смысловые отношения. Посредством таких грамматических форм получают выражение глубинные механизмы познания, сложившиеся в той или иной культуре» [47]. Ведь именно вечность представляется одним из инструментов для описания модусов истины – вечной и временной.
Итак, нужны ли в контексте планирования языка грамматические элементы, способные выражать вечное бытие без перифраза? И если в церковнославянском языке сохраняется специальная форма для выражения вечного бытия, то нужна ли она в светском языке, есть ли ей здесь место? Философско-дидактические размышления приводят к мысли о возможности использования специальных грамматических средств для выражения вечных ценностей. Как для религиозного мировоззрения вечно сущий Дух есть субъект эмоционально-рационального восприятия, так для настоящего философа сверхъестественное должно оставаться объектом научного интереса или хотя бы подразумеваться. Если язык художественной литературы может подменить рассуждение или идею метафорой, то философия требует обоснованной формы для описания тех самых тончайших материй, о которых не рекомендуется рассуждать вне определенного контекста и вне определенного круга лиц [48].
В исследуемых текстах мы обнаруживаем наставления о необходимости восприятия грамматики как ключевого элемента в Богопознании: «Теологически сведущие книжники для уяснения своей или чужой лингвистической деятельности напоминали теологически сведущим читателям библейскую Притчу о талантах, свидетельствующую о необходимости личной ответственности за принятие даров учительства» [49]. Являясь «тематическим ключом», эта притча обосновывала необходимость обучения грамматическому искусству, поскольку в «грамматической хитрости» скрыты ключи к особенной области философского знания. Но если грамматика открывает философию, то философия, в свою очередь, удостоверяет грамматику.
Мысль о приоритете или дополнительном распределении синтаксиса представляется довольно очевидной, аксиоматического уровня (хотя и нельзя сказать, что к настоящему времени исчерпывающе описанной и общедоступной). Ведь если принимать во внимание определяющую роль контекста в выяснении значений понятий, который, в свою очередь, создается во многом благодаря грамматике, приоритет синтаксиса становится очевидным. Смысл не формулируется без синтаксиса: какими бы бедными или богатыми на содержание ни были те или иные понятия, для объяснения их смысла требуются законные грамматические связи. Иными словами, значение слова не вполне выражается знаком, т.е. смысл, содержащийся в слове, невозможно уяснить без описания, построение которого вне грамматики немыслимо [50]. П. Строусон на этот счёт замечает следующее: «Грамматическая структура, равно как и смыслы отдельных слов, обусловливают смыслы, или семантические интерпретации, предложений», то есть «структура сама по себе в значительной степени детерминирует смысл» [51]. В таком же духе неоднократно высказывался и Ф. де Соссюр, замечая, что язык предшествует говорящему: «я не хозяин языка, скорее, наоборот, в языке подчиняюсь я». Таким образом, становится очевидным, что синтаксис если и не предшествует имени, то находится с ним в неразделимой онтологической связи. Синтаксис – это не то, что мы думаем, когда говорим, а то, что, образно говоря, думает нами [52]; что проистекает из нашего бессознательного, предметно-образного, довербального мышления.
Один из самых авторитетных современных исследователей языка Ноам Хомский также видит первостепенную важность для семантической интерпретации предложения (или понятия) в грамматических категориях и правилах, в совокупности которых задаются термины, определяющие грамматические отношения, характерные для данного языка. По мнению учёного, современная лингвистическая теория должна быть, в первую очередь, теорией синтаксиса. К разряду фундаментальных идей трансформационно-генеративной грамматики относится различие между глубинной и поверхностной структурами. Для нас в этом отношении интересна, прежде всего, сама идея различия между грамматическими уровнями, в свете чего легче вообразить себе и её метафизическую часть, наличием которой, по Витгенштейну, обусловлена особенная «языковая игра» (Sprachspiel) языка теологии. Эта часть дает основание для различия языка богословия и языка науки и для выражения особенного типа суждений, к которым относятся богооткровенные истины. В этом контексте интересно замечание Д. Мануссакиса о всего двух упоминаниях теологии у Витгенштейна, предпочитавшего молчать о том, о чём невозможно высказаться: «Сами по себе слова не дают знать, как понимать слова (‘Теология’)» и «О том, какого рода объектом является нечто, дает знать грамматика (‘Теология как грамматика’)» (при этом в последней фразе архимандрит указывает на небольшое, но очень красноречивое различие: «О том, какого рода объектом является нечто, дает знать грамматика») [53].
Итак, в христианской религиозной философии идея вечного бытия связана с бестелесностью, плоть получает вечное бытие только в связи с догматом о Богочеловечестве – Плоть обожжена, Тело наделяется нетленными свойствами. Для аутентичного выражения этой доктрины в христианской традиции задействована грамматика служебного церковнославянского языка, обладающего специальными средствами выражения вечного во временных категориях в контексте «теологической концепции грамматики». Но если в церкви о Вечном заботятся священно-церковно-служители, то в светском обществе забота о сохранении вечных абстрактных ценностей лежит и на воспитателях, и на грамматиках, и на философах [54].
Современная же естественно-научная парадигма постулирует телесную тленность и исключает из оперативной мыслительной базы даже саму мысль о платонической нетленной вечности. Таким образом, в связи с сомнениями в актуальности супранатуралистического бытия язык современной науки не испытывает нужды в дополнительных грамматических формах для описания научной картины мира. Между тем, существует мнение, что одной из главных отмечаемых специалистами причин кризиса социальных наук, стало то, что «в качестве единственно верной, истинно научной модели в прошлом многие социальные науки восприняли естественнонаучную парадигму» [55]. По существу, в наше время лишь немногие философы-идеалисты склонны рассматривать некоторые абстрактные понятия как абсолютно бестелесные субстанции, нуждающиеся для воплощения в специальных грамматических конструкциях, тогда как материалистов в контексте эволюции их парадигмы устраивает упрощенная система.
Однако, как бы ни был активен тренд «материализации» грамматики, у всего есть свои пределы. Языковедение как «вещь в себе», т.е. как наука, ставящая (в соответствии со своей диалектической природой) под сомнение всё, что ранее казалось несомненным, старающаяся избегать однозначных догм в принципе, рано или поздно дойдет до самого края, далее которого развиваться будет некуда: грамматическая система, не содержащая вечных форм, не может и сама оставаться вечной.
1. Кузьминова Е.А. Грамматика как средство постижения Богооткровенной истины // Слово. Грамматика. Речь: Сб. научн.-метод. / Отв. ред. О.В. Чагина. - Москва, 2008. - Т.10. - С. 79-90.
2. Хаутала С. АндреаГварна: «грамматические войны» в начале XVI века // Науки о языке и тексте в Европе XIV-XVI веков. - Москва, 2016. - С. 100-139.
3. Benveniste E. Expression indo-européennes de l'éternité // Bulletin de la société de linguistiquefrançaise. - P.: Klincksieck, 1937. - T. 38. - С. 104-112.
4. Рассел Б.: «Даже среди философов широко признаются только те универсалии, которые обозначаются именами прилагательными и существительными, тогда как обозначаемые глаголами и предлогами обычно упускаются из виду. Этот пропуск имел очень большие последствия для философии; без преувеличения вся метафизика после Спинозы преимущественно определялась этим обстоятельством» [Рассел Б. Проблемы философии. - Новосибирск, 2001. - 109 с.]
5. Мануссакис Д.П. Фигуры молчания: к богословской эстетике языка / Бог после метафизики. Богословская эстетика. - Киев, 2014. - С. 189-212.
6. В этом контексте обращает на себя внимание дискуссия главных действующих персонажей широко известных в позднем Средневековье «Грамматических войн» АндреаГварны - Существительного и Глагола, где в одной из сцен, приведших к потере суверенитета царством Грамматики, Существительное настаивало на своей древности перед Глаголом, апеллируя при этом к Писанию: «Бог создал все вещи, а среди них создал также и Глагол. А Бог есть Имя (Существительное), не Глагол». На что Глагол возразил ему следующее: «Но не единственный же ты у нас тут эксперт в словесности: я удержу власть, которая мне причитается, обосновав её тем, что говорится весьма ясно в этих самых писаниях. Процитирую начало главы из древнего текста, где сказано: "В начале было Слово (Verbum), и Слово было у Бога, и Слово было Бог". Навостри уши, чего морщишься? "И Глагол - говорит он, - был Богом, Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть". Так что это не Существительное создало всё, а Глагол, и Бог был Глаголом, а не Существительным, и Глаголом Бога укреплены небеса» [Хаутала С. АндреаГварна: «грамматические войны» в начале XVI века // Науки о языке и тексте в Европе XIV-XVI веков. - Москва, 2016. - С. 124.]
7. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: в 6 т. - Москва, 1982. - Т. 2. - С. 109.
8. Ренан Э.: «Древние языки всегда более богаты формами, чем те, которые испытали на себе прикосновения грамматиков<…> Язык никогда не был так индивидуален, как в первобытную эпоху человечества, никогда не достигал такой определенности<...> В состоянии первобытной свободы, каждый говорил по-своему, подражая другим, но не отказываясь от права собственной своей инициативы и не заботясь о соблюдении в целом установленных законов. Затем является грамматик<...> и отыскивает «строгие законы для аномалий» <...>Литературная обработка, далеко не увеличивая богатства языков, в известном смысле, лишь обедняет их, стараясь придать «правильность и форму» [Ренан Э. О происхождении языка // Филологические записки, 1862. - В. 3. - С. 23-47].
9. Каган М.С.: «Для внегенетической передачи накапливаемого опыта от поколения к поколению и от коллектива к индивиду культуре нужно было разорвать эти границы и изобрести такие способы материального закрепления-кодирования-сохранения-трансляции духовной информации, которые позволяли бы ей достигать адресата не только «здесь» и «сейчас», но и в любом месте и в любое время, для этого нужно было оторвать высказывание от говорящего ипридавать ему самостоятельное предметное бытие, благодаря которому послания могли бы переживать своих отправителей и оставаться навсегда во вненаследственной памяти человечества" [Каган М.С. Философия культуры. - Санкт-Петербург, 1996. - С. 37.]
10. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. - Москва, 1986. - 444 с.
11. Борхес Х.Л.: «В действительности, первооткрыватель представлений о вечности не Платон - в одном платоновском тексте говорится о «древних и священных философах», предшественниках Платона, - но он с блеском углубляет и сводит воедино все сделанное до него» [Борхес Х.Л. История вечности // Соч.: В 3 т. - Москва, 1994. - Т.1. - С. 161-178.]
12. Катермина В.В. Язык как способ осмысления мира // Сопоставительная и славянская филология: история, состояние, перспективы. - Воронеж, 2014. - С. 32.
13. Григоревский М.Х. Состояние и задачи греческой этимологии по Курциусу // Филологические записки, 1868. - В.3. - С. 37.
14. Ренан Э.: «В применении положения, что abstractia происходит из concreta, необходима самая крайняя осторожность. В числе корней индогерманских языков есть несомненно и такие, которые еще до разделения языков выражали чисто духовные действия» [Ренан Э. Происхождение языка // Филологические записки, 1866. - В. 5 - С.120.]
15. Кареев Н.И. Мифологические этюды // Филологические записки, 1873. - В. 2. - С. 1-21.
16. Лурье В.М. История византийской философии. Формативный период. / В. М. Лурье при участии В.А. Баранова. - Санкт-Петербург, 2006. - XX+553 с.
17. Борхес Х.Л.: «Лучшее документальное свидетельство первой вечности - пятая книга «Эннеад» [Плотина], второй, или христианской, вечности - одиннадцатая книга «Исповеди» Св. Августина» [Борхес Х.Л. История вечности // Соч.: В 3 т. - М., 1994. - Т.1.]
18. Плотин. Эннеады. - Киев, 1995. - 390 c.
19. Введенский А.И. Протоиерей Федор Александрович Голубинский как профессор философии // Богословский вестник. Декабрь, 1897. - № 12. - С. 484.
20. Голубинский Ф.А. Лекции философии. - Москва, 1884. - В. 1. - С. 75.
21. Безлепкин Н.И. «Эта мысль о включении в метафизику идеи Софии была подхвачена и проинтерпретирована В.С. Соловьевым в контексте «философии всеединства» [Безлепкин Н.И. Философия языка в России. К истории русской лингвофилософии. - Санкт-Петербург, 2002. - 272 с.]
22. Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека / Опыт персоналистической философии / / Царство Духа и царство Кесаря. - Москва, 1995. - С. 4-163.
23. Хамидулин А.М. «Примечательно, что эти рассуждения Бердяева созвучны позиции представителей философии жизни Вильгельма Дильтея и Анри Бергсона <…>. Так, в трактате Анри Бергсона «Материя и память» (1896) мы встречаем буквально следующее выражение: «Что такое для меня настоящий момент?.. здесь не может быть речи о математическом мгновении» [Хамидулин А.М. Категория «время» в философии истории Н.А. Бердяева // Известия ТГУ, 2019. - № 4. - С. 132-138.]
24. Крейг У.Л. Божественная вечность // Оксфордское руководство по философской теологии. - Москва, 2013. - С. 227-259.
25. Кузнецов П.С. У истоков русской грамматической мысли // Академии наук СССР. - Москва, 1958. - 76 с.
26. Кузьминова Е. А.: «Если в братских школах и училищах, широко распространённых в Юго-Западной Руси с конца XVI в., грамматика как греческого и латинского, так и церковнославянского языков была включена в процесс обучения, то в Московской Руси система школьного образования в XVII в. ещё отсутствовала» [Кузьминова Е.А. Грамматика как средство постижения Богооткровенной истины // Слово. Грамматика. Речь: Сб. научн.-метод. / Отв. ред. О.В. Чагина. - Москва, 2008. - Т.10. - С. 79-90].
27. Половцев В. Краткая летопись грамматической деятельности в России. - Москва, 1847. - 79 с.
28. Лопухин А.Д. Климент или Клим Смолятич // Православная Богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь. - Том XI. - С. 146-150.
29. Живов В.М., Успенский Б.А.: «Можно предположить, что от Иоанна Экзарха идет по крайней мере связь оппозиции временных форм с противопоставлением Бога и твари: к Богу относятся формы имперфекта, к твари - формы аориста. У Иоанна Экзарха оппозиция временных форм интерпретируется как противопоставление «всегдашнего» времени и времени собственно прошедшего, аористного. У Зиновия же оппозиция, как кажется, строится другим образом: к Богу относится не только имперфект, но и имперфектный аорист, обе эти формы противопоставляются перфектному аористу, и это противопоставление интерпретируется как различие между обозначенным и необозначенным началом процесса: аористу приписывается инхоативное значение, и именно поэтому он оказывается неприложим к не имеющему начала божественному бытию. Таким образом оппозиция подвергается переосмыслению <...>Там, где русские книжники говорят о тех же формах, они приписывают им другие значения, а там, где они обсуждают те же значения, они соотносят их с разными формами» [Живов В.М., Успенский Б.А. Grammaticasubspecietheologiae.Претеритные формы глагола «быти» в русском языковом сознании XVI-XVIII веков // RussianLinguistics. - М., 1986. - V.10. - № 3.- С. 372].
30. Кравец Е.В.: «Грамматика греческого языка заместила несуществующую грамматику церковно-славянского языка, задавая необходимый набор значений и средства их выражений» [Кравец Е.В. Книжная справа и переводы Максима Грека как опыт нормализации церковно-славянского языка XVI века // RussianLinguistics. 1991. - V.15. - N.3. - С. 265].
31. Кайперт X. Грамматика и теология: по поводу языка-объекта славянского «Трактата о восьми частях слова»// Русский язык в научном освещении. - Москва, 2008. - С 79-98.
32. Гальченко М.Г. Челобитная инока Савватия Государю Алексею Михайловичу на книжных справщиков // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. - Москва, 2006. - С. 295-369.
33. Мечковская Н.Б.: «Максим Грек, с почётом приглашенный при Василии III (XVI в.) помочь в переводах церковных книг, по обвинению в их неверном исправлении был признан еретиком, судим, дважды проклят и большую часть жизни провел в монастырских тюрьмах. Один из пунктов обвинения состоял в том, что Максим одно из прошедших времен (аорист) заменил другим прошедшим временем (перфектом). Вину Максима видели в том, что при таком выборе глагольных времен он говорил о Христе как о преходящем, временном, а не как о Вечном» [Мечковская Н.Б. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. - М., 1998. - С. 250].
34. Вернер И.В. О языковой практике Максима Грека раннего периода SUBSPECIEGRAMMATICAE // Славяноведение. - Москва, 2010. - № 4. - С. 30-39.
35. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. - Москва, 1963. - Т. 1. - С. 37.
36. Кузнецов П.С.: «Мы знаем, что даже «современные английские школьные грамматики в своей терминологии содержат многое из того, что восходит к античным грамматикам, пользуются такими грамматическими понятиями, которые совершенно не свойственны грамматическому строю живого современного английского языка» [Кузнецов П.С. У истоков русской грамматической мысли // Академии наук СССР. - М., 1958. - 76 с.].
37. Smyth H.W.: «The aorist may express a General Truth. The aorist simply states a past occurrence and leaves the reader to draw the inference from a concrete case that what has occurred once is typical of what often occurs: παθὼνδέτενήπιος ἔγνω a fool learns by experience» [Smyth H.W. Greek Grammar. - NY., 1920. - 784 р.]
38. Есперсен О. Философия грамматики. - М., 1958. - 400 с.
39. Robertson A. Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research. - Louisville, 1914. - 848 р.
40. Гуссерль Э. Объяснение генезиса противоречия между физикалистским объективизмом и трансцендентальным субъективизмом. - Москва, 1994. - С. 64-110.
41. Живов В.М. Церковнославянский как учёный язык // История языка русской письменности. - Москва, 2017. - Том II. - С. 874-887.
42. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. - Москва, 1958. - 133 с.
43. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. - Москва, 1993. - 123 с.
44. Макаров М.Л. Экспансия естественно-научной модели знания // Основы теории дискурса. - Москва, 2003. - 280 с.
45. Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской философии и науке. - Москва, 2006. - 464 с.
46. И «грамматическая хитрость» церковного языка сама собой имеет нематериальную «природу», т.е. обладает собственным абстрактным и метатекстуальным бытием и представляет собой грамматический топос.
47. Катермина В.В. Язык как способ осмысления мира // Сопоставительная и славянская филология: история, состояние, перспективы. - Воронеж, 2014. - С. 32-38.
48. Шохин В.К. «Те, кто доказывает существование Бога, еще глупее тех, кто отрицают его… Согласно тому же Григорию Богослову, нельзя богословствовать без этого чувства и недопустимо, чтобы догматы обсуждались с каким угодно слушателем - «чуждым и нашим, враждебным или дружественным, благонамеренным и злонамеренным». Теология есть в своем роде «мистерия-таинство», которое профанируется, превращаясь в предмет публичных дебатов» [Шохин В.К. Теология как служанка философии, или современная версия традиционной метафизики // Оксфордское руководство по философской теологии. - М., 2013. - С. 9-29.]
49. Запольская Н.Н. Церковнославянский язык в христианскойэпистеме // Лингвистическая эпистемология: история и современность. - Минск, 2013. - С. 5-21.
50. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. - Москва, 2000. - 160 с.
51. Строусон П. Грамматика и философия // Новое в зарубежной лингвистике. Логический анализ естественного языка. - М., 1986. - В. 18. - С. 160-172. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. - Москва, 2000. - 160 с.
52. Эпштейн М.Н. Грамматософия / Проективный словарь гуманитарных наук. - Москва, 2017 - 612 с.
53. Мануссакис Д.П. Фигуры молчания: к богословской эстетике языка / Бог после метафизики. Богословская эстетика. - Киев, 2014. - С. 189-212.
54. Половцев В. Краткая летопись грамматической деятельности в России: «Для языка столько же важны изящные произведения словесности, сколько и исследования о нем. Грамматисты столько же вносят усовершенствований в язык и имеют воспитательное влияние, сколько и литераторы» [Половцев В. Краткая летопись грамматической деятельности в России. - М., 1847. - С. 17-68].
55. Макаров М.Л. Экспансия естественно-научной модели знания//Основы теории дискурса.- Москва, 2003.- 280 с.