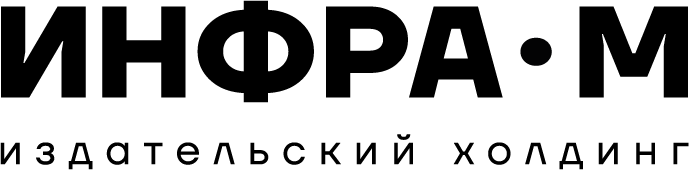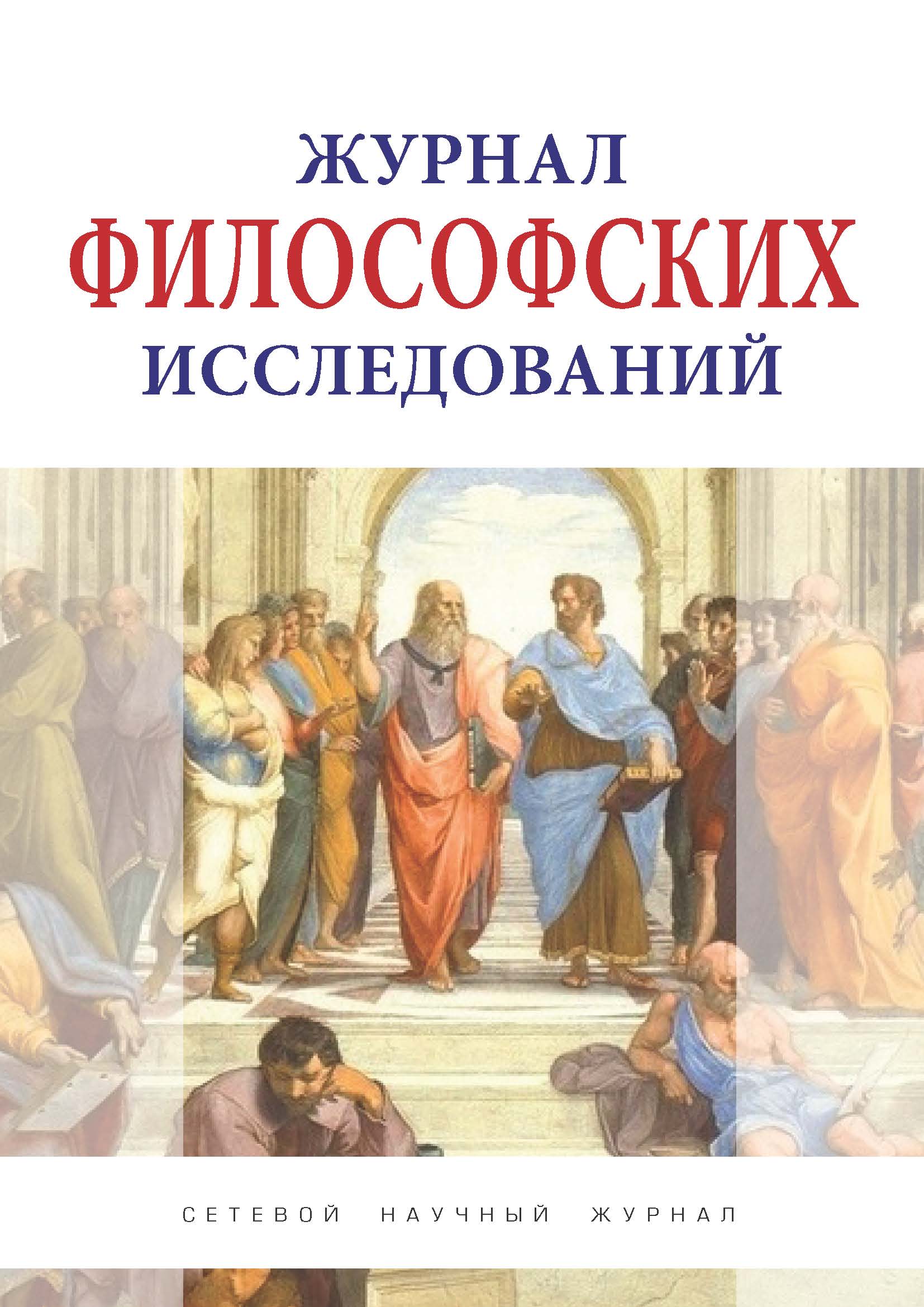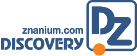г. Москва и Московская область, Россия
Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Россия
Статья посвящена факторам трансформации гуманитарного познания при переходе к информационно-потребительскому обществу. Исследуется специфика познавательного процесса в условиях медиасреды: фрагментация знания, проблема псевдонауки, альтернационное мышление, «поколенческий разрыв», подмена культурных ценностей симулякрами. В этом контексте анализируются наиболее значимые аспекты: отождествление знания и информации; деструкция конспирологии; проблемы трансдисциплинарности; преодоление сциентической модели; переоценка рациональности (внерациональности); релятивизация познания; постмодернистский дискурс; гуманистика и др. Проблема, по мнению автора, заключается в стирании в интернет-пространстве грани между достоверными сведениями и сфальсифицированными конструкциями (сложность демаркации объективного знания и паранауки). Констатируется – многие факторы свидетельствуют о качественных изменениях в современной гуманитарной сфере, пересмотре субъект-объектных отношений, провозглашении структурообразующим компонентом «человекоразмерности», актуализации комплексных инновационных подходов.
трансформации, знание и информация, демаркация псевдонауки, конспирология, холистическая модель, трансдисциплинарность, гуманитарный кризис, синергетика, энактивизм, постмодернизм, познавательный релятивизм, дискурс, абдукция, концептивизм, инновация.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-03-00522
На рубеже XX–XXI вв. происходят качественные изменения во всех отраслях научного знания. Главным объектом исследований стали сложные саморазвивающиеся системы. Многие факторы трансформации в гуманитарной сфере обусловлены переходом к постнеклассической картине мира. Ключевые идеи постнеклассики – нелинейность, системность, конвергенция, самоорганизация, глобальный эволюционизм, глубинная экология, синхронистичность, аутопоэзис и др. Как следствие, существенно меняются не столько контуры познавательного процесса, сколько сама мировоззренческо-этическая основа. Большинство отечественных и зарубежных специалистов признают, что установку на объективность исследований следует считать преимущественно теоретическим концептом. Констатируется, что на результаты всякой научной работы неизбежно влияет социокультурная среда, внешнее окружение и масса иных обстоятельств. Современный исследователь «наук о духе», вопреки требованию нейтральности формулировок и осторожности в суждениях, как это предполагалось в рамках «методологического агностицизма», оказывает самое активное влияние на изучаемый объект. Целью данного исследования является рассмотрение основных когнитивных, мировоззренческо-этических и методологических факторов трансформации современного гуманитарного познания.
Когнитивные проблемы в информационном поле
Наиболее значительным фактором стало полномасштабное последовательное перенесение познавательного процесса в информационное поле, в котором происходит его фрагментация в сетевых сообществах, пришедших на смену иерархической структуре социума. Одним из закономерных следствий «информационного взрыва» является хаотизация сведений о мире, приводя к мировоззренческой дезориентации, а в конечном итоге – к видоизменению ценностных ориентиров. Как отмечает известный отечественный культуролог Григорий Померанц: «Простая культура вся вмещалась в голову, она была чем-то целым, без разрыва на техническую информацию, духовные ценности и т.п. В ней не было спора между религией и философией. Примитивный человек нравственно целен и учит детей своим примером. Этот пример не достигал уровня Алеши Карамазова, но он не падал до Смердякова. А сейчас каждое поколение сходит со сцены банкротом; только отдельные люди вырастают до задач нашего времени или хоть приближаются к ним. Развитие в сторону "дробности" слишком далеко зашло» [34].
В онтологических условиях «инфополя» происходит неоправданное отождествление понятий «знание» и «информация», что приводит к подмене понятий и возникновению необоснованных познавательных дискурсов. В глобальной сети фактически невозможно отделение достоверной информации от ложной, что порождает невероятную востребованность псевдонаучных и квазирелигиозных проектов. Вследствие перенесения когнитивной деятельности в сферу технологий коммуникации, при сохранении внешнего авторитета науки, нивелируются ее статус и социальная база. Большинство пользователей никак не связывает восприятие экспонентно увеличивающихся данных о мире с нормами научности, предпочитая пошаговые инструкции и адаптированные к потребительским интересам вненаучные (паранаучные) сообщения в режиме online. Знаком времени стало сосуществование в электронной сети в условиях свободной конкуренции объективного знания, мистики, псевдонауки, всевозможных домыслов, мифологем, фальсификаций, «фейковых» конструкций, невероятного объема умышленно и неосознанно искажаемых фактов, различных форм манипуляции сознания: «…начинает доминировать не столько стремление к понятиям, сколько массовая жажда ощущений и впечатлений. Отходя от принципов гуманитарного знания, человек впадает в полную зависимость от манипулятивной культуры» [41, c. 237].
Вытеснение в медиасреде XXI в. достоверного знания псевдонаукой во многом обусловлено прежним доминированием сциентизма, направленного на монополизацию научной картины мира за счет вытеснения всех иных форм познания. Именно в этом контексте следует рассматривать проблему идентификации лженауки. Ее решение зависит от понимания трех важнейших положений: Во-первых, не следует относить к псевдонауке исследовательские направления, находящиеся на стадии становления, предметная область которых строго не определена. Во-вторых, необходимо делать поправку на неизбежное присутствие в допустимых пропорциях дилетантизма (особенно в гуманитарной сфере), когда, не обладая необходимой источниковедческой базой, исследователи претендуют на глубокие выводы в своей области по причине непрофессионализма. В-третьих, от некорректных работ заблуждающихся авторов следует строго отделять умышленно сфальсифицированные исследования, выдающие себя за сверхзначимые открытия («дело Г. Грабового», «петрикгейт»). Как считает Е.Д. Эйдельман, при принятии решений о подобных публикациях достаточно использовать 18 критериев, дающих почти стопроцентную диагностику специфики предлагаемого текста [50, c. 19–24]. Однако проблему невозможно решить запретом на издание подобной информации. Данная ситуация обусловлена глубинными причинами. Массовое сознание привлекают новейшие гипотезы и неустановленные факты, осмысление которых предстоит в будущем: голография, фрактальная геометрия, квантовая телепортация, теория суперструн, «туннели во времени», эвереттика и мн. др. Повышенный интерес к этой проблематике закономерен и объясняется познавательными мотивировками, поэтому в режиме интернет-пространства всегда будут образовываться лакуны, которые могут быть заполнены сенсационными открытиями «доморощенных гениев», эзотериков и шарлатанов. Ситуация значительно усложняется, когда учёные, имеющие научную степень, фанатично увлечённые определенной идеей, претендуют на радикальный пересмотр картины мира, не имея на то достаточных оснований [9, c. 462–468].
Признавая переход к обществу информационных технологий, различные авторы совершенно по-разному оценивают его причины, сущность и дальнейшие перспективы. Наблюдается консенсус в определении социально-экономического и политического будущего: глобальная экономика, финансовый универсализм, маркетинг, менеджмент, корпоратократия, элита «новых кочевников» и др. И напротив –диаметральные расхождения в философско-мировоззренческом осмыслении гуманитарных последствий информатизации. Как отмечал известный математик и эколог академик Никита Моисеев: «Сегодня термином “информационное общество” всё чаще пользуются неспециалисты. Многие считают, что на планете уже устанавливается (а некоторые считают даже, что установилось) информационное общество. Так говорят те, кто сводит понятие об информационном обществе к чисто технической революции в сфере распространения и обмена информацией» [28, c. 181]. В нынешней ситуации, когда сетевая экономика и обучение с использованием ИКТ стали повседневной реальностью, актуально предостережение одного из творцов цифровой эпохи, создателя кибернетики Норберта Винера, подчеркивающего недопустимость отождествления инструментальной и мировоззренческой функции знания: «Современный человек, и особенно современный американец, сколько бы у него ни было “знаний, как делать”, обладает очень малым “знанием, что делать”. Он благосклонно отнесётся к недосягаемой ловкости полученных машиной решений, не слишком задумываясь над побуждениями и принципами, скрывающимися за ними» [5, c. 188]. Один из главных исследователей Интернета социальный мыслитель Мануэль Кастельс констатирует, что объективное структурированное знание в условиях информационного поля теряет смысл, т.к. последовательность изложения событий всегда зависит от субъективного выстраивания контекста источником информации: «Если энциклопедии упорядочили человеческое знание по алфавиту, то электронные СМИ обеспечивают доступ к информации, выражению и восприятию её в соответствии с побуждениями потребителя или с решениями производителя» [18, c. 121].
В настоящее время преобладает противоречивое толкование базового понятия – «информация» (от лат. informatio – ознакомление, разъяснение). Наглядный пример приведён известным биофизиком Д.С. Чернавским. Ссылаясь на специальное терминологическое исследование понятия «информация», проведённое И.В. Мелик-Гайказян, он соглашается, что из десятков приводимых дефиниций ни одну нельзя считать в полной мере удовлетворительной. В разных источниках отсутствует общее понимание, а диапазон интерпретаций расходится: от «вся совокупность данных о мире» до «сигнал, поступивший в сознание из внешнего источника» [47, c. 3–5]. Исследователь В. Седякин приходит к заключению, что, пока понятие «информация» используется на обыденном уровне для решения прикладных задач (система связи, шифрование и пр.), проблем не возникает, но ситуация принципиально меняется, когда его начинают употреблять в качестве универсального термина всей современной науки: «…уже к концу 1980-х годов было распространено мнение, что этому общенаучному понятию невозможно дать общее определение и что оно должно уточняться в рамках конкретных наук» [39, c. 180]. Весьма показательно в этом отношении высказывается специалист в области информатики К. Колин: «Существующая в русском языке полисемия термина "информация", а также отсутствие в настоящее время более или менее согласованных представлений о содержании этоготермина создают дополнительные, и весьма существенные, трудности при обсуждении проблем информации представителями различных отраслей науки» [22, c. 137]. Выдающийся инженер и математик Клод Шеннон, впервые предложивший единицу измерения информации – «бит» (биосистема), с самого начала предостерегал от бездумного перенесения понятия «информация» в сферу гуманитарных наук, обозначив ажиотаж социологов, психологов и лингвистов вокруг этого термином «бандвагон» [49, c. 667–669].
В использовании понятий «информация» и «знание» отдельными авторами происходит фактическое отождествление, а в массовом сознании их, как правило, считают синонимами. Как следствие, один объект определяется через другой, например: «информация – это знания, переданные кем-то другим или приобретённые путем собственного исследования» или «знание – это высшая форма информации» [32, c. 50]. Показывая бессмысленность такой категориально-понятийной эквилибристики, Д. Чернавский предложил дефиницию в стиле Козьмы Пруткова: «Информация есть отражение отображения наших соображений» [47, c. 4]. Инверсия понятий во многом обусловлена качественным сдвигом в мировоззренческо-этическом осмыслении познавательного процесса. Если ранее накопление сведений о мире являлось следствием социокультурного развития, то теперь информация фактически конструирует действительность, делая неосязаемой грань между реальностью и виртуальностью. Кроме того, в границах заданного медийного дискурса, направленного на эмоциональное восприятие, по сути, стирается различие между истинным и ложным и более того отпадает сама необходимость в постановке такого вопроса, о чем наглядно свидетельствует сенсационно обнаруженный журналистами в 2016 г. феномен «постправды» [14].
Принципиально значимо, что понятия «знание» и «информация» в качестве обозначения получаемых данных о мире имеют разную основу. Если содержанием знания является систематизация, то главными характеристиками информации являются избыточность и стремление к энтропии. Как отмечает Г. Ильин: «Знания – это проверенный практикой общества результат познания действительности, основные особенности которого – систематичность, непротиворечивость и, главное, объективность, независимость от желаний и воли людей. Информация – сведения любого характера, выражающие чаще всего мнения говорящих, иногда сомнительной достоверности и, как правило, несовпадающие или даже противоречащие друг другу» [15]. Л. Скворцов подчеркивает крайнюю недопустимость ситуации, когда возможности информации рассматривают «в качестве основного направления интеллектуального процесса, обусловливающего неизбежность изменения универсальных социально-правовых и нравственных норм цивилизации» [41, c. 228].
Одним из следствий является поколенческий разрыв познавательной традиции. Наглядно он выражен в «двух типах» современного человека – представителей письменной культуры с логико-понятийным мышлением и представителей постписьменной культуры с альтернационным, или «клиповым» мышлением (термин «clipping» первоначально обозначал подборку газетных вырезок на определённую тему). Кардинальное расхождение между поколениями, как считает известный психолог Рада Грановская, подтверждается преобладанием второго типа в возрастных группах младше 20 лет и первого типа в возрасте после 40 лет [8]. В восприятии молодежи, согласно ее выводам, вербальное замещается аудиовизуальным, отсутствует склонность к самоанализу, нарушается линейность мышления: «в информационное поле можно войти и выйти в любой момент без всякой потери… Дети, выросшие в эпоху высоких технологий, по-другому смотрят на мир. Их восприятие – не последовательное и не текстовое, они видят картинку в целом и воспринимают информацию по принципу клипа…. понимать – значит быстро понимать, а не танцевать герменевтические церемониальные танцы. Всё, что мешает быстро думать и быстро принимать решение, должно быть оставлено без внимания. Клиповое сознание – это монтаж. Оно не обобщает, а выдумывает» [8].
Фактор клипового сознания обуславливает многие проблемы системы образования. Следствием перехода современной школы на новую технологическую основу стало нарушение иерархии знания. Исследователь контркультуры Мира Султанова отмечает: «Если культу информации подчинятся и те, в чьих руках находится образование молодого поколения, то это поколение в будущем может оказаться неспособным решать те социальные и этические проблемы, которые могут встать перед нашим обществом на последней стадии индустриальной революции ˂…˃ информация – это всего лишь факты, иногда полезные, иногда тривиальные, но они никогда не заменят мысль, и надо научить молодежь трезво оценивать роль и значение информации, не преувеличивая их» [43, c. 75].
Обеспокоенность «информационным бумом» еще в конце прошлого века проявлял уже упоминавшийся академик Никита Моисеев: «Избыток и неструктурированность информации рождают информационный хаос. А он – эквивалент невежества, потери видения истинных ценностей <…> необходимая (а не только полезная) информация тонет в хаосе “шумов”, и при современных методах отбора информации, то есть при существующей системе образования, бывает практически невозможно выявить нужный сигнал, тем более его интерпретировать» [27].
Другим следствием стала тенденция снижения качества образования, обнаруженная зарубежными специалистами с конца шестидесятых годов прошлого века (Ф. Кумбс, 1970) (в России наметившаяся только в два последних десятилетия – В.Д.). Многие учителя признают негативное воздействие универсализации тестирования, обеспокоены ориентацией учеников лишь на знание конкретных учебников, нарушением принципа контекстуальности, имитацией аналитических суждений и пр. [10, c. 107–115]. Одним из основных средств демонтажа классической школы выступает повсеместная монетизация и перевод образования на коммерческую основу [30]. Под угрозой оказался традиционный способ передачи знания по линии «учитель – ученик». Как отмечает в своем исследовании Э. Волкова, изначально система обучения строилась не столько на аккумуляции полученной суммы знания, сколько на воспроизведении самого образа учителя [6, c. 42–47]. Базовый принцип современной андрагогики – non scholae, sed vitae discimus (учимся не для школы, а для жизни), вопреки внешней убедительности фактически провозглашает альтернативный лозунг – «каждый сам себе учитель»! Вместе с тем, радикальное реформирование привычного «храма знаний» и переход к «структурам предоставления информационных услуг» отражают объективный процесс распространения принципиально иного типа мышления, сочетая в себе деструктивные и конструктивные компоненты переходного периода, при этом, сложно возразить выводу М. Кастельса: «Новая форма обучения ориентирована на выработку умения трансформировать информацию в знания, а знания – в действия» [19, c. 295].
При всей безальтернативности общества высоких технологий императивным должно быть признание – информация не имманентна знанию. Теоретики информационного общества пытаются проецировать дальнейшее развитие, делая акцент главным образом на социально-экономические и геополитические факторы. В описании контуров будущего ставится знак равенства между понятиями «информационное общество» и «общество знания». С точки зрения одного из патриархов менеджмента Питера Ф. Друкера, изобретение компьютера предопределило революционные изменения не столько в науке и оборонной промышленности, сколько в работе высшего руководства, учёте экономических цепочек (economic-chainaccounting), банковском деле, стратегии принятия решений в бизнесе. С позиции менеджмента приоритетное положение должно занимать умение добывать и применять информацию для получения конкретного результата: «мы собираем информацию не для того, чтобы накапливать знания, а для того, чтобы предпринимать правильные действия» [12]. Необходимо понимать, что популярный у современных менеджеров лозунг банкиров начала XIX в. «кто владеет информацией, тот владеет миром» указывает лишь на значимость осведомленности для получения прибыли и только внешне созвучен афоризмам о знании (мышлении) великих мудрецов (Сократ, Ф. Бэкон, Р. Декарт и др.). Вполне очевидно, что стратегия эффективных решений не коррелирует с главной целью познания – установлением истины (научная истина в равной мере обязательна для всех дисциплин: от астрофизики и метеорологии до этнографии и музыковедения, – В.Д.) и приемлема только с позиции далеко не самой исторически востребованной философии прагматизма, поэтому должна рассматриваться как прикладная задача, но не как фундаментальная основа всей мировоззренческой системы современного социума.
Как подчеркивает томский науковед Ирина Черникова: «Научное знание и истина — понятия неразделимые. Обретение знания тесно связано с владением истиной. Ориентация на истину — это то, что отличает научное знание, но в то же время не противопоставляет ценности науки ценностям социального бытия. Вопрос о том, насколько общество нуждается в том, чтобы положить в основу нашего действия именно научное знание, а не  идейные образования, отвечающие требованию эффективности,
идейные образования, отвечающие требованию эффективности,  имеет ключевое значение для формирования стратегий современного социального строительства» [48, c. 188]. В этом отношении показательна точка зрения, высказанная во время острой научной дискуссии «Псевдонаучное знание в современной культуре» (2001): «…наука еще не утратила память о том, что научное исследование есть движение к истине. С другой стороны, став «предприятием», социальным институтом, наука неизбежно приняла на себя все характерные черты этого рода деятельности.
имеет ключевое значение для формирования стратегий современного социального строительства» [48, c. 188]. В этом отношении показательна точка зрения, высказанная во время острой научной дискуссии «Псевдонаучное знание в современной культуре» (2001): «…наука еще не утратила память о том, что научное исследование есть движение к истине. С другой стороны, став «предприятием», социальным институтом, наука неизбежно приняла на себя все характерные черты этого рода деятельности.  Такая наука служит не истине, а тем, кто обеспечивает научные предприятия, гарантирует их материальное благополучие. В прикладной науке знание принимает формы, ориентированные на технологическое использование, здесь главная его характеристика — не истинность, а эффективность» [37, c. 15].
Такая наука служит не истине, а тем, кто обеспечивает научные предприятия, гарантирует их материальное благополучие. В прикладной науке знание принимает формы, ориентированные на технологическое использование, здесь главная его характеристика — не истинность, а эффективность» [37, c. 15].
Культуролог Михаил Эпштейн высказал неординарную мысль, что в науке, исторически связанной с систематизацией объективных данных о мире, понятие «знание» всегда занимало доминирующее положение, однако в нынешней ситуации приоритетную роль следует отводить понятию «мышление»: «Между «знать» и «мыслить» имеется существенное различие. «Знать» – значит иметь в уме верное понятие или сведение о каком-то предмете. «Мыслить» – значит совершать в уме действия с понятиями, сочетать их, разъединять, соединять на новом уровне. Мышление – это динамическая работа с теми понятиями, которые статично представлены в форме знания. Безусловно, у знания есть своя собственная динамика, которая выражается глаголом «познавать». Познание – это процесс приобретения знания, в ходе которого неверные понятия и их сочетания отбрасываются, а верные сохраняются и приумножаются. Познание необходимо включает в себя процесс мышления, т.е. творческой работы с понятиями. «Но мышление не сводится к познанию и не укладывается в формы знания, поскольку оно создает такие понятия, которые не соответствуют ничему в действительности…..Мышление не только следует за знанием, но и предшествует ему» [51, c. 34–35]. Он ставит вопрос о статусе новых гуманитарных технологий, подчеркивая, что изобретательская деятельность должна быть возведена в ранг метаценности научной работы, занять особое положение в культуре и университетских программах. Ученый убежден, что ценность гуманитарных исследований, направленных на воспроизведение существующего знания, должна быть сведена к минимуму, а наука будущего должна строиться на максимальном привлечении всего потенциала «мыслительной энергии» в постановке и решении нетривиальных научных задач: «Знание — это овеществленное "прошлое" мышление, как фабрики, станки и другие средства производства, в терминах экономики, есть прошлый труд. Всегда есть опасность, что в научно-образовательных, академических учреждениях, профессионально занятых выработкой и распространением знаний, запас прошлой мысли начнет преобладать над энергией живого, "незнающего" мышления» [51, c. 46]. Эпштейн констатирует, что мера охваченного знания и степень его претворения в мысль должны разумно совмещаться, но главный императив исследовательской деятельности не приращение нового знания, а «творческое горение» и острое переживание учеными нехватки собственных знаний: «Обращаясь к конкретному содержанию научной работы, следует определять ее достоинство как мерой охваченного знания, так и мерой его претворения в мысль, точнее, соотношением этих двух мер….‹…›…науку делают не всезнайки, а люди, которые остро переживают нехватку знаний, ограниченность своего понимания вещей. Чистой воды эрудиты, которые знают свой предмет вдоль и поперек, не так уж часто вносят творческий вклад в науку, в основном ограничиваясь публикаторской, комментаторской, архивной, биобиблиографической деятельностью (безусловно, полезной и необходимой)» [51, c. 47–48]. Он приходит к выводу, что, привычная нам оценка объективного знания о мире, с его точки зрения, неизбежно будет релятивироваться, перемещаясь в зону субъективного восприятия: «Реальность не просто отчуждается, овеществляется или обессмысливается – она исчезает, а вместе с ней исчезает и общий субстрат человеческого опыта, заменяясь множеством знаково произвольных и относительных картин мира» [53].
Итак, история последних десятилетий свидетельствует, что получение знания и пользование информацией не только не тождественны, но и во многом противоположные мыслительные процессы. Один связан с, по сути, добровольным и сознательным «усложнением» критического мышления, а другой – с максимальным «облегчением» мышления, превращая его в динамичное, интерактивное, но в большинстве случаев – некритическое восприятие. Почти полвека назад отечественный математик и философ В. Тростников в этой связи указывал на особый психологический механизм познавательного процесса, подчеркивая, что получение знания всегда сопряжено с внутренними усилиями и затратой труда: «…если человек сознался себе, что он не знает какого-то предмета, который для него было бы полезно и нужно знать, то он захочет заполнить пробел в своем образовании. Если же у него есть основания поверить в своё знание предмета, то он постарается поверить, чтобы не затрачивать труд и время на учебу, – такова уж природа людской психики» [44, c. 10].
Методологическая деструкция (конспирологический подход)
Немаловажным фактором трансформации гуманитарного познания стала необычайная востребованность в средствах массовой информации и в отдельных научных изданиях конспирологического подхода. Нормы классической науки на протяжении большей части XX в. ставили заслон проникновению в общественное сознание фальсификаций, домыслов, псевдонаучных построений, однако, в мультимедийную эпоху ситуация кардинально изменилась. Популярность обрел стереотип – все глобальные проблемы мировой политики решаются путем сговора внутри групп, представляющих богатейшие семейные кланы [23]. Если ранее исследовательские модели, выражающие данную точку зрения, занимали маргинальное положение, то вследствие расщепления культуры на элитарную (авангардное искусство, философия экзистенциализма, постмодернизм) и примитивную (маркированную – «одномерный человек» (Г. Маркузе), «психология толпы» (Г. Лебон), «восстание масс» (Х. Ортега-и-Гассет) и др.)) у подавляющей части социума, ориентированной на беллетристику и публикации СМИ, повышенный ажиотаж неизменно вызывает «теория заговора».
В настоящее время конспирология достаточно изучена в отечественной и зарубежной науке: М. Фенстер, Дж. Энтин, Ф. Рудмин, Н. Кон, Ч. Де Микелис, Й. фон Бибберштайн, А. Фурсов, А. Дугин и др. Ученые признают, что большая часть объяснительных моделей, предлагаемых конспирологами (экономические, политические, экологические), вопреки самоидентификации не могут претендовать не только на уровень теории, но и гипотезы в строго научном смысле, представляя собой бездоказательные умозаключения. Декларируя себя в качестве приоткрытой завесы во всеобщем неведении, они, по сути, манифестируют псевдометодологию, построенную на полном отсутствии достоверной источниковедческой базы (подобные «теории» строятся по принципу – зачем что-то доказывать, если и так понятно, что истинное положение известно лишь особому кругу «посвященных») [20].
На протяжении истории бытовало мнение, что истинные причины событий и имена главных участников остаются для очевидцев неизвестными, сокрытыми, законспирированными. Данная позиция вполне закономерна, т.к. с момента возникновения институт политики основывался на скрытых механизмах власти. Реальным актором принятия решений всегда выступал узкий круг приближенных лиц, манипулирующих общественным мнением в своих интересах. Еще в знаменитом труде выдающегося мыслителя Никколо Макиавелли «Государь» (1513) доказывалось, что политика – это интеллектуальное соревнование по использованию в собственных целях стратегических просчетов и тактических ошибок оппонентов (скрытие истинных задач). Элементы конспирологии, по сути, изначально включали в себя институт дипломатии, т.к. для достижения задуманного требовалось держать подлинные намерения втайне от посторонних. В одном из писем Макиавелли от 17 мая
С античной эпохи распространились тайные ордена и закрытые общества (орфики, школа Пифагора и т.д.). С возникновением масонских лож, аристократических союзов и элитарных олигархических структур стали распространяться представления о «мировой закулисе» (сам термин введен известным философом Иваном Ильиным): «большинство политических решений принимаются за закрытыми дверями и по-настоящему недоступны СМИ. Вследствие чего, вполне реальная и объяснимая теневая зона разрастается у активных и заинтересованных наблюдателей до невероятных размеров, порождая мифы о всевозможных "заговорах". Комментатор действий власти, как правило, не зная всей подоплёки происходящего, волюнтаристически достраивает неизвестные звенья или факты до теории» [13]. Программным произведением, предопределившим краеугольную доктрину «жидомасонского заговора», по всей вероятности, следует считать так называемые «Протоколы сионских мудрецов». Этот документ, никогда не являющийся предметом научной дискуссии и не рассматривающийся как подлинный источник, оказал заметное влияние на обоснование антисемитизма и холокоста в нацистской Германии [1].
С переходом к постиндустриальному обществу классическая наука последовательно теряла позиции, уступая место принципиально иному типу мировоззрения. На смену вековым духовным традициям пришла массовая культура, базирующаяся на консьюмеризме и реализующаяся большей частью в медийном пространстве. В условиях мировоззренческой эклектизации пользователей сети методологическая инверсия оказалась чрезвычайно востребованной. Как отмечает отечественный исследователь А. Панченко: «Конспирология имеет, так сказать, и позитивную сторону, подразумевая не только поиски и опознание скрытых врагов, но и генеалогию тайных сил, стоящих на стороне добра и способных справиться с агентами губительного для страны и общества заговора….. специфический тип "массового знания" в ближайшем будущем станет если не нормативной, то чрезвычайно влиятельной формой социального воображения» [33, c. 93]. Стремительно увеличивая тиражи, конспирология становится легитимным стилем и своего рода модой, причем, не краткосрочным увлечением, а устойчивой социальной тенденцией. Симптоматично – наибольший интерес к ней проявляют не обыватели, в большей степени увлеченные рекламой, информацией о сексе, шоу-бизнесе и туризме, а сегмент пользователей, имеющих критический взгляд на окружающую действительность, становясь фактически объектом коммерции. Как отмечает историк А. Фурсов: «Немало конспирологических работ написано в погоне за сенсацией и заработком, отсюда — легковесность и примитивность, часто — непроверенность фактов» [46]. В фундаментальном труде известного английского философа Карла Поппера «Открытое общество и его враги» (1945) феномен «теории заговора» рассматривался как следствие секуляризации общественного сознания: «заговорщицкая теория общества, подобно современному историцизму и современным попыткам установить "естественные социальные законы", является типичным результатом секуляризации религиозных предрассудков. Вера в гомеровских богов, заговорами которых объясняли историю Троянской войны, прошла. Боги изгнаны. Однако их место заняли могущественные индивидуумы или группы — злонамеренные группы, порочные замыслы которых ответственны за все то зло, от которого мы страдаем» [36, c. 113].
В некоторых источниках выражено мнение, что конспирологию следует относить к каналам самовыражения современной мифологии и особому литературному жанру: «Конспирология не просто один из способов объяснения истории, она – влиятельная форма существования мифологии в наши дни. Претендуя на элитарный статус знания для избранных, при текстологическом анализе она оказывается всего лишь литературным жанром, близким к фэнтези. Условием для разворачивания конспирологического детектива в нашем сознании является снижение мышления с аналитического уровня на ассоциативный» [16].
Подобные концепции, выстраиваемые в каркас массовой культуры, представляют собой некий симулякр познания. Одной из основных причин их популярности является актуальность затрагиваемых проблем, на которые предлагаются поверхностные и противоречивые ответы. Имеющие широкий успех у молодежи информационные проекты «TheX-Files» («Секретные материалы», 1993); «Матрица» (1999); «Код да Винчи» (2003); «Дух времени» (2007); «Процветание: готова ли к нему Земля?» (2011) и пр. затрагивают аспекты, волнующие антиглобалистски настроенную часть общества, как-то: проблема «предельного роста», нарушение биоценоза, угроза экологического коллапса, генная инженерия, фармацевтический бизнес, «запланированное устаревание» товаров, поляризация доходов, концепция «золотого миллиарда», гибридные войны, «твиттер-революции», «клиповое мышление» и т.д. Как справедливо отмечает журналист О. Кашин, можно наблюдать удивительный парадокс: «вообще о конспирологии можно рассуждать сколь угодно издевательски, но если ответы, которые дают конспирологические теории, как правило, оказываются совсем бредовы, то вопросы, задаваемые конспирологами, чаще всего вполне разумны и имеют право быть заданными» [20].
«Теория заговора» вызывает огромный резонанс, формируя мнение многочисленных посетителей специализированных сайтов и порталов интернет-пространства. Основоположник изучения конспирологии в отечественной науке, культуролог А. Дугин объясняет это некритичным отношением к социальной действительности и наложением различных исторических контекстов, выражающих тотальное недоверие к рациональному началу. Как следствие, позитивистское отношение к истории подвергается осмеянию, в то время как вера в могущественные организации и «невидимую руку мировой закулисы» становится безальтернативной. Для объяснения малоизученных явлений привлекаются концепции «сатанинских орденов», «вторжения инопланетян», «оккультных лож» и пр. Причем, когда между одним политическим событием и другим нет явной корреляции (а она требуется), конспирологический метод действует безукоризненно: если логическая связь между явлениями не обнаружена, то это и служит лучшим подтверждением факта скрытого управления – «отсутствие доказательства есть лучшее доказательство» [13]. Тиражирование такого рода литературы оказывает негативное влияние на восприятие важнейших процессов современности, выступая, как деструкция методологии познания. На психологическом уровне у сторонников «докопаться до скрытой ото всех истины» происходят самоизоляция и культивирование крайнего субъективизма: «Ваша рациональная половина понимает, что эти теории, скорее всего, лживы. Но ваша инстинктивная половина думает: а может, в них все-таки что-то есть? В своих массовых версиях конспирология порождает толпы людей, одержимых нарциссическим бредом собственной посвященности. Толпа идеально подходит для манипуляций харизматических вождей. Такие люди не способны к последовательному мышлению и самоорганизации для решения реальных проблем» [16].
Итак, популярность в современном информационном обществе конспирологического осмысления социально-экономических и геополитических реалий свидетельствует, с одной стороны – об утрате доминирующего положения научной методологии, а с другой стороны – об актуальности среди значительной части потребителей упрошенной и зрелищной масскультуры. Оно не только дезориентирует поиск истины, ориентируя на сенсационные публикации, дающие готовые ответы на все вопросы, но и фактически упраздняет изучение фундаментальной научной литературы. Как следствие, предопределяет социальную апатию («за нас все уже решено»; «ничего в этом мире изменить нельзя» и пр.), инициируя агрессию и поиск врага.
Преодоление сциентистской модели рациональности
Принципиально значимым фактором трансформации гуманитарного познания в современную эпоху является преодоление сциентистской модели, построенной на картезианстве и пересмотр отношения к рациональным и внерациональным формам познания. К середине ХХ в. стало очевидным, что редукционисткое выстраивание мира как слаженно работающего «часового механизма» обедняет целостную (холистичную) картину мироздания, представляющую собой не замкнутую систему, а открытый процесс. Новейшие открытия на передних рубежах (квантовая механика, кибернетика, теория систем, нейропсихология, философия сознания и др.) свидетельствуют не в пользу механистической картины, где все взаимодействия объектов статичны и строго детерминированы, напротив, указывая на мир непрерывного становления и изменения, в котором даже незначительные флуктуации способны вызвать непрогнозируемые последствия. Стало очевидным, что базовая основа познания – установление причинно-следственных связей между наблюдаемыми явлениями не отменяет другой не менее значимый принцип – индетерминизм, т.е. признание активной роли элемента случайности. Большинство специалистов так или иначе отмечает закономерность стирания границ рационального и внерационального и социально-практическую направленность познания. Становится очевидным, что необходимо отказаться от традиции, отождествляющей рациональность и познание, представляющее собой единство рационального и иррационального. Это особенно важно при понимании сложных и многогранных феноменов и аспектов культуры современности.
Нельзя не согласиться с известным отечественным философом науки Пиамой Гайденко: «пока мы не освободимся от мысли, что смысл вносит в мир только человек (человеческое сообщество, человеческая культура), пока не вернем и природе ее онтологическое значение, каким она обладала до того, как технотронная цивилизация превратила ее в «сырье», мы не сможем справиться ни с проблемой рациональности, ни с экологическим и прочими кризисами» [7, c. 6]. По ее мнению, именно доктрина рационализма предопределила технократию и хищническое отношение к природе, поставивших цивилизацию на грань исчезновения: «экологический кризис есть не только продукт индустриальной цивилизации в ее, так сказать, предметно-вещной форме — в виде машин, фабрик, заводов, электро- и атомных станций и т.д., — но и продукт особого, характерного для нового времени типа ментальности, определяющего наше отношение к природе и понимание ее. Природа, как бы ее ни толковали, выступала в Новое время — и вплоть до наших дней — как объект (система объектов), используемый человечеством в своих целях; не только к неживой, но и к живой природе человек относился и относится не просто как хозяин и даже не просто как господин, но как преобразователь и насильник» [Там же]. С ее точки зрения, следует кардинально менять представление о рациональности, как о рассудочности, позволяющей овладевать миром, и обратить внимание на высшую смысловую связь не только определенных действий и душевных качеств, но рассматривать их в контексте единой природной целостности: «От научной рациональности, понятой как техника овладения природой, необходимо вновь обратиться к разуму — как той высшей человеческой способности, которая позволяет понимать — понимать смысловую связь не только человеческих действий и душевных движений, но и явлений природы, взятых в их целостности, в их единстве: в их живой связи. На протяжении двух столетий человечество стремилось главным образом изменять природу; чтобы не истребить ее окончательно и не покончить таким образом и с самим собой, человечеству сегодня необходимо вернуть себе способность понимать природу» [7, c. 13].
Схожую позицию занимает канадский писатель Джон Ролстон Сол. С его точки зрения, гуманитарный кризис, прежде всего, обусловлен необоснованным отождествлением достижений с рациональным поведением, а неудач и просчетов с «неразумным», вместо признания ответственности за все совершаемые действия: «Дух, желание, вера, чувство, интуиция, воля, опыт все это не имеет значения для функционирования нашего общества. Игнорируя все это, мы автоматически приписываем наши неудачи и преступления импульсам неразумногo поведения. Наше понимание человека как единого целого, то есть как нашей сознательной памяти, распалось на части, и теперь мы не имеем ни философских, ни практических убеждений, способных дать нашему обществу и eгo институтам обоснование ответственности за совершаемые действия. Лишенные стабилизирующих ryманистических основ, мы с ужасом обнаружили, что самые естественные эмоциональные ресурсы, которые необходимы для пребывания в рамках нашей цивилизации, легко вырождаются в низменные чувства» [11, c. 843–844].
В одном из своих эссе известный культуролог Григорий Померанц поделился интересным наблюдением. Для понимания внутреннего мира человека, по его мнению, важно различение двух моделей познания, сложившихся вероятно еще в доисторические времена. Они сосуществуют в диалектическом единстве, в целом соответствуя левополушарной и правополушарной функциональности головного мозга: понятийно-категориальная (логическая) и образно-ассоциативная (внелогическая). Это отчетливо выражено уже в детском возрасте: построение знаний о мире по модели «в самом деле» («взаправду») и в игровом варианте познания «как будто» («понарошку»): «Каждое открытие в мире предметов, в мире, который "в самом деле", становится для ребенка новым материалом для игры. Нет еще рассудочного деления на субъект и объект, оторванные друг от друга и безразличные друг к другу. Ребенок стихийно чувствует, что все в мире имеет отношение к его собственной сущности. И у него не возникает роковой вопрос ленивых и нелюбопытных взрослых — зачем мне это знать?» [35, c. 41]. Особую значимость при этом, по его мнению, имеет равноценность этих миров: реального («такой, каков он есть») и виртуального («таков, каким бы мне хотелось его видеть»). В каждом конкретном сознании, отмечает Г. Померанц, данные модели достаточно подвижны и проявляются в различной пропорции (аналогичны, но не вполне совпадают с областью искусства и науки): «Человеческое сознание с первых шагов создает и разрабатывает обе основные модели мира: мир как текучее переливчатое Целое, охваченное единым ритмом (Дао, "вечно живой огонь"); мир как совокупность атомарных фактов, жестко расчлененных и затем связанных более или менее точно фиксированными отношениями (равенство и неравенство, причинность и вероятность и т.д.), Первая модель создается из слов или знаков, каждый из которых вызывает бесконечный поток ассоциаций; это слова, образы, тропы (метафоры). Вторая модель конструируется из однозначных слов, из знаков строго определенного смысла» [35, c. 42]. Мыслитель констатирует, что обе познавательные модели значительно упрощают окружающую действительность и могут реализоваться только как взаимно дополнительные: «…обе модели все время существуют рядом друг с другом, ни одну из них нельзя назвать старшей, ни одну из них нельзя совершенно упразднить. То одна, то другая "берет верх", оказывается (относительно) влиятельнее, активней….. Синкретическое сознание, с его стихийными переходами от одной модели познания мира к другой и господством поэзии над наукой, было естественно сложившейся почвой, на которой древняя философия выросла и которую она смогла преодолеть. Должно быть ясно понято, что обе модели мышления упрощают действительность. Образно-ассоциативное мышление отражает мир в одном аспекте, атомарно-логическое — в другом. Мир не создан художником; но он не создан и механиком конструктором…. механическая концепция действительности обрушивается на нас всей своей тяжестью, как только мы пытаемся с ее помощью познать живое, познать самих себя» [35, c. 45–46].
Проблема соотношения рациональных и внерациональных форм познания отходит на второй план при нерешённости вопроса о самой возможности научного изучения сознания человека. Виднейший специалист в сфере искусственного интеллекта Джон Сёрл, отмечает, что многие ученые до сих пор уверены, что психика человека не может быть объектом научного исследования: «Декарт делил мир на два рода субстанций: ментальные и физические. Физические субстанции находятся в ведении науки, а ментальные принадлежат сфере религии. Нечто похожее на это деление мы встречаем и сегодня. Например, сознание и субъективность часто рассматриваются как вненаучные предметы. И такое нежелание исследовать сознание и субъективность отчасти обусловлено определенным пониманием науки: наука якобы должна заниматься объективно наблюдаемыми феноменами» [40, c. 5].
Американский философ, профессор Нью-Йоркского университета Томас Нагель, убежден в недопустимости свойственного для гуманитарной науки первой половины ХХ в. отождествления сущности сознания с структурно-функциональной деятельностью мозга. По его мнению, поскольку главной чертой сознания является его субъективность, постольку попытка описать сознание с объективных позиций науки неизбежно что-то упускает. Так, полные сведения о нейрофизиологическом строении мозга летучей мыши никогда не позволят понять – каково это быть ей? Подобный вывод, согласно Нагелю, распространяется и на человеческую психику. Объективные сведения о структуре и морфологии серого вещества, констатирует он, не дают представления о полноте и качестве его внутренних переживаний, а значит, сознание не может быть редуцировано к мозгу: «…может ли вообще личный опыт иметь объективный характер. Есть ли какой-нибудь смысл спрашивать, какими в действительности являются мои переживания в отличие от того, какими они кажутся мне?...‹…›…В настоящее время у нас нет знаний, необходимых для того, чтобы думать о субъективном характере опыта, не опираясь на воображение, не пытаясь поставить себя на место субъекта переживания. Это можно расценить как необходимость формировать новые понятия и разрабатывать новый метод» [31].
Многие специалисты отмечают, что на смену разделению рационального и внерационального должно прийти понимание диалогичности познавательного процесса в самом широком смысле. Как отмечает академик В. Лекторский: «Диалог это не внешняя сеть, в которую попадает индивид, а единственная возможность самого существования индивидуальности, т.е. то, что затрагивает ее внутреннюю сущность. Поэтому диалог между мною и другим предполагает целую систему внутренних диалогов, в том числе между моим образом самого себя и тем образом меня, который, с моей точки зрения, имеется у другого человека (диалектика: "Я для себя", "я для другого", "другой для себя", "другой для меня" и т.д.)» [25, c. 110].
Итак, приоритет понятийно-логического (рационального) познания присущ только сциентистской модели, а в современной постнеклассической науке, напротив – различные формы рационального и внерационального (иррационального) постижения рассматриваются, как взаимодополнительные механизмы в рамках общей картины мира.
Проблема трансдисциплинарности (синергетический подход)
Весомым фактором трансформации становится проблема междисциплинарности (трансдисциплинарности), возникающая в гуманитарной сфере при необоснованном перенесении и некритическом использовании понятийно-категориального аппарата, заимствованного из естественнонаучного познания. Главным образом это относится к произвольным и расширенным толкованиям философами, социологами, историками, культурологами, антропологами и представителями многих других направлений в качестве панацеи, способной ответить на все вопросы синергетического подхода. Как иронично замечает М.В. Сапронов: «"Призрак бродит по коридорам гуманитарной науки - призрак синергетики!" Такая ассоциация возникает у автора при взгляде на нынешнее состояние обществознания…‹…›…синергетика сегодня подавляющим большинством ученых воспринимается как новое мировидение, новая научная парадигма, – написано предостаточно. Вполне понятно поэтому стремление представителей разных отраслей знания "примерить" ее элементы к собственной области научных интересов» [38, c. 158].
В настоящее время о синергетике говорят, как о целостном междисциплинарном знании самоорганизации в системах различной субстратной природы. Как показано В. Лекторским, уже к концу ХХ в. сложился ряд перспективных направлений, предлагающих обоснованные пути преодоления ограниченности идеалов классической науки. Наряду с теорией восприятия Джеймса Гибсона и гуманистической психологией Абрахама Маслоу и Карла Роджерса особые надежды он возлагал на возникающую на базе комплексной науки о системах «философию нестабильности», впервые предложенную немецким физиком-теоретиком Германом Хакеном и бельгийским физикохимиком, лауреатом нобелевской премии Ильей Пригожиным, ставшую основой системного (синергетического) подхода [24]. Как признает В. Степин: «Одной синергетики недостаточно, чтобы решить кардинальные проблемы происхождения жизни и социума. Но сегодня привлечение ее средств при решении данных проблем уже необходимо» [42, c. 271]. В настоящее время границы использования данного подхода недостаточно изучены и очерчены лишь схематически. С точки зрения И. Черниковой, следует условно различать три сферы применимости синергетики: междисциплинарная исследовательская область, имеющая дело с самоорганизацией в пространственно-временных структурах; комплексные исследования самоорганизации в когнитивной сфере; синергетика процессов конструирования человеком окружающей среды на основе общих законов самоорганизации космоса [48, c. 51].
Причиной сверхвостребованности синергетической парадигмы стал радикальный пересмотр казавшихся незыблемыми норм классической науки. Стало очевидно, что в большинстве сегментов реальности стабильность всегда сменяется состоянием неустойчивости, а законы математики и физики могут действовать только в условиях заданной определенности закрытых систем. Сложно возразить, что социум и человек (как составная часть и базовый структурный элемент) представляют собой открытые неравновесные самоорганизующиеся системы. Исходя из чего вполне допустимо предположение о применимости к ним универсальных механизмов, открытых учёными-естественниками, которые действуют во всех системах подобного типа. Трудно отрицать, например, значимость в социальной жизни случайных (недетерминированных) событий, приводящим к роковым последствиям (флуктуации); ситуацию сверхзначимости и непрогнозируемости «точки развилки» в момент выбора дальнейшего сценария развития (бифуркация); изначальную предопределенность последующих событий в рамках «коридора возможностей» (аттрактор) и т.д. Вместе с тем, подобные аналогии лишь допущение, вовсе не подтверждающее единую природу закономерностей термодинамики и социальных наук и уж тем более не оправдывающее буквальное перенесение специальной терминологии. Если в биохимии и геологии, например, использование инструментария теории систем подтверждается точными расчётами и результатами экспериментов, то в гуманитарной сфере подобное попросту невозможно. Исходя из этого, при построении всякой исследовательской концепции в любой из гуманитарных областей требуется, как минимум, ненарушение известного с XIV в. хрестоматийного правила – не множить дополнительных законов при изучении чего-то нового, если это можно исчерпывающе объяснить в границах уже существующих («бритва Оккама») и сформулированного в XVIII в. Г. Лейбницем императива – не утверждать что-то без достаточного основания для полагания, что дело обстоит именно так, а не иначе («закон достаточного основания»).
В огромном количестве литературы, написанной учеными-гуманитариями, посвященной актуальности синергетики в их отраслях знания эти требования во многих случаях не выполняются. Если у самих конструкторов «новой методологии» в сложных наукообразных теоретизированиях это нарушение не столь очевидно и его трудно проследить, то в среде приверженцев таких школ и направлений, отстаивание подобных взглядов может трансформироваться в псевдонаучные опусы. Например, в научной статье одной из сторонниц эдукологической трансдисциплинарности в образовании ученого-педагога И.В. Буркиной можно прочитать следующее: «Эдукология синергетического поиска гуманитарных технологий открывает беспредельные возможности спасительных квантов Любви и сострадания, способных нейтрализовать разрушительные процессы, происходящие в организме другого человека, регулировать процессы в самом себе, восстанавливать гармонию пространств …‹…›…можно сказать, что диссипативная структура современного состояния образования претерпевает множество бифуркаций и как бы балансирует между простыми и странными аттракторами. Поэтому в контексте нашей проблемы наибольший интерес представляет опыт применения синергетического поиска в области методологии современной эдукологии открывающей возможность гуманитарным технологиям усовершенствовать целостное осознание нашей постмодернисткой культуры, которая зачастую ценит самовлюбленный релятивизм и славу выше милосердия и доброты» [4, c. 15–22].
Отечественный специалист по проблемам синергетики Владимир Буданов в своем фундаментальном труде «Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании» (2008) детально проанализировал семь основных методологических принципов синергетики: гомеостатичность; иерархичность; нелинейность; незамкнутость (открытость); неустойчивость; динамическая иерархичность; наблюдаемость. Им подчеркивается степень ограниченности зоны применимости того или иного принципа (в частности, указывается на возможности синергетики с некоторыми нюансами не только в открытых, но и в замкнутых системах; значительную степень допущения в причислении к общим принципам – иерархичности и др.). По его мнению, в структуре реальности следует, как минимум, различать хаос Бытия и хаос Становления (данностью которых определяется степень актуализации определенного принципа). Размышляя о перспективах реализации возможностей синергетики как познавательной метапрограммы, он приходит к достаточно осторожным выводам: «Мне кажется, не следует забывать, что синергетика – наука новая, открытая, развивающаяся, не все может; например, не всегда мы имеем дело с плавными изменениями внешних воздействий на нелинейную систему, иногда они носят резкий ударный характер, и тогда возникают сложные переходные процессы, которые синергетика пока не умеет адекватно описывать…. В последние десятилетия активно изучаются системы, в которых хаотическое поведение является нормой, а не кратковременной аномалией, связанной с кризисом системы. Это прежде всего системы с турбулентностью, климатические модели, плазма» [3, c. 67–68].
Немаловажно, что аргументы однозначных сторонников синергетического подхода из лагеря гуманитариев (социологов, психологов, историков), как правило, эмоциональны, но мало обоснованы. Например, философ В.Г. Туркина, возражая противникам перенесения синергетики в область гуманитарных наук аргументирует это следующим образом: «Таким образом, исследования в гуманитарном поле следуют "не букве, но духу" синергетики и представляются вполне обоснованными.Гуманитариев не может не привлекать красота и целостность синергетики, возможность построения с ее помощью универсальных моделей гуманитарного. Нелинейный подход в принципе гуманен и оптимистичен» [45, c. 146].
С резкой, но достаточно содержательной критикой универсализации синергетического подхода, противопоставляя ему теорию «эволюционных инноваций», выступил А.В. Болдачев. Он считает, что необходимо различать синергетику как точную науку (тепловая конвекция, волны в плазме, колебания численности биологических популяций, климатические изменения, демографические процессы и пр.), заслуги которой неоспоримы, и синергетику – как спекулятивное философское построение: «Синергетика как точная наука имеет выдающиеся достижения, однако ажиотажное поклонение новой концепции во многом выхолащивает ее рациональное содержание. Ничто так не губительно для теории, как ее философско-расширительное толкование, механический перенос ее законов и методологических принципов за пределы области ее предмета. Это касается как формальной стороны — теория утрачивает свою достоверность за границами ее возможного применения, так и научно-организационной, психологической — в результате вольно-обиходного использования специальных терминов, подгонки под новые формальные схемы феноменов из всевозможных областей знаний теряется безусловно ценное научное содержание» [2, c. 41–42]. По его мнению, если теория диссипативных структур на макроскопическом уровне в среде хаотично распределенных элементов в сильно неравновесном состоянии – это весомый вклад в науку, то ее произвольное толкование в гуманитарных науках – большая проблема: «Конечно, каждая наука свободна в выборе терминологии. Никто не может запретить использование таких удобных для произнесения фраз, как "развитие реакции", "самоорганизация структуры", "многовариантность эволюции процесса". Но именно вольно-обиходное применение терминов послужило причиной не всегда обоснованному, на мой взгляд, приложению выводов синергетики к сложным системам, в которых действительно реализуются процессы развития и эволюции. В философских текстах, посвященных синергетике, постоянно встречаются заключения типа: «из синергетики следует…», «согласно синергетической парадигме…», «исходя из законов синергетики…» и т.д. Согласитесь, что звучат эти фразы аналогично традиционным научным высказываниям типа: «из второго закона термодинамики следует …», «согласно преобразованиям Лоренца…», «исходя из уравнения Максвелла …». Но, увы, никакой прямой отсылки к конкретным положениям, законам, уравнениям синергетики обычно не делается. А при ближайшем анализе выясняется, что речь идет не об узкоспециальном описании процессов в открытых неравновесных системах, а о философских обобщениях по аналогии» [2, c. 42].
При всей значимости универсальных синергетических закономерностей, установленных в науке о системах, важно продолжать поиск идей, удовлетворительно разрешающих существующие противоречия. Одной из моделей, расширяющих понимание постнеклассической рациональности, можно считать энактивизм. В контексте данного интеграционного подхода к природе познания отрицается антиномичность субъекта и объекта, тела и разума, природы и наблюдателя, реального и виртуального, подчеркивается взаимосвязь и взаимовлияние всех явлений, воспринимаемых человеком. Один из основателей кибернетики Хайнц фон Ферстер предложил считать науку об управлении базой создания новой эпистемологической системы («кибернетики кибернетики» или же кибернетики второго порядка). Согласно его концепции, в центре всякого познавательного процесса всегда находится познающий субъект (используется немецкий термин «Eigen» («само», «я»)). Исходя из этого, всякое описание внешней реальности, по Ферстеру, есть самоописание, т.к. исследователь, наблюдая за чем-либо, всегда в первую очередь наблюдает за самим собой. Его кибернетика второго порядка подразумевает включение человека как наблюдателя в рамки наблюдаемой структуры, как часть изучаемого объекта. Делается вывод, что каждый человек конструирует (энактивирует) собственный мир в силу своих внутренних способностей и определенного типа ментальности.
Одно из центральных мест в энактивизме занимает пришедшая из биологии концепция аутопоэзиса, разработанная чилийскими учеными Умберто Матураной и Франсиско Варелой. Они настаивают, что склонность к самоорганизации является отличительной чертой всех живых существ: «именно на этот процесс самовоспроизводства мы указываем, когда называем организацию, отличающую живые существа, аутопоэзной организацией» [26, c. 40]. В философском смысле термин «аутопоэзис» (autopoeisis – от гр. autos — само и poeisis — достраивание), по сути, означает конституирование бытия сознанием. С их точки зрения, познание представляет собой определенного рода интеллектуальное производство. Его смысл в конструировании объекта определенным субъектом в ментальном и социокультурном поле деятельности. Делается вывод, что субъективные и объективные акторы познания не только не противоречат, но и не могут противоречить друг другу. Ученые поставили своей целью познание познания без какой-либо независимой от нас системы отсчета. Ими был подтвержден один из основных тезисов эволюционной эпистемологии: жизнь, в аспекте ее конститутивной сущности, есть познавательный процесс по созданию новых структурных сопряжений и корреляций [26, c. 147]. Именно способность к аутопоэзису, с их точки зрения, обеспечивает индивиду право на автономное бытие без необходимости контроля со стороны структур более высокого порядка.
Существенную роль в энактивизме играет концепция «двойного приказа» («двойного послания»), разработанная американским психологом и антропологом Грегори Бейтсоном, в которой подчеркивается, что контекст всегда влияет на суть послания. По Бейтсону, в коммуникации возможны такие ситуации, когда текст послания противоречит контексту, из которого можно одновременно извлечь несколько разнонаправленных смысловых коннотаций. На основании чего им делается вывод, что человеческий разум (как и сам человек) является субсистемой, встроенной в контекст действия других сил и крупномасштабных систем.
Важное место также занимает теория сложного мышления, разработанная французским философом Эдгаром Мореном. Ее исходная посылка – утверждение о возможности самозарождения сложной организации из хаотических процессов. Теория построена на анализе семи основных принципов-парадоксов: системный принцип (сложное превосходит сумму частей, из которых состоит); голографический принцип (часть является частью целого, но и включает в себя целое); принцип обратной связи (причина действует на следствие в той же мере, в которой следствие действует на причину); принцип рекурсивной петли (продукты производства являются производителями и причиной самопроизводства); принцип авто-эко-организации (живые существа автономны, но в то же время зависимы от среды обитания); принцип диалогичности; принцип повторного введения познающего в процесс познания (познание как конструкция и самонаблюдение) [29, c. 16–18]. Принципиально важен взгляд Морена на проблему междисциплинарности. Он разграничивает понятия «междисциплинарное» и «трансдисциплинарное». В первом случае речь может идти лишь о дискуссии и невозможности сведения разных дисциплин к какому-либо общему знаменателю. Во втором случае – происходит взаимопроникновение различных исследовательских направлений (например, концепт, зародившийся в точных науках, может перекочевать в сферу гуманитарных) [Цит. по: 21, c. 112–113]. Выступая с позиции релятивизма и солипсизма, Э. Морен высказал идею создания антропосоциальной науки, нуждающейся в установлении внутренних сочленений естественных и гуманитарных наук путем реорганизации всей структуры знания [29, c. 30].
Известный австрийский зоопсихолог, один из основателей эволюционной эпистемологии, лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц, отстаивал биологическую детерминацию теории познания. Развитие культуры, например, по его мнению, является прямым продолжением эволюционных процессов, происходящих в природе. В дальнейшем эта идея была развита его учеником Рупертом Ридлем в работе «Головой об стену. Биологические границы мышления» (1994), в которой констатировалось, поскольку когнитивный аппарат человека ограничен биологической основой, постольку он не способен воспринять мир таким, каков он есть и может лишь создавать те или иные конструкции в процессе получения и обработки информации.
Определенный интерес в рамках энактивизма представляет схожая концепция «Unwelt» Якоба фон Искюля, провозглашающая, что человек не столько познает, сколько отбирает в процессе познания те смысловые конструкции, которые могут быть полезными в его собственной картине мира. По его мнению, все живые существа живут в различных, практически не пересекающихся между собой мирах, а полезность отбираемой ими информации определяется биологическим фактором и стремлением к выживанию. Его понятие «Unwelt» однозначно указывает на приоритет субъективного фактора в мире живых существ[Цит. по: 21, c. 130].
По мнению многих сторонников энактивизма, проведение трансдисциплинарных исследований – это во многом вынужденный, но крайне необходимый шаг, поскольку постнеклассическая наука взаимодействует со сложными самоорганизующимися системами, состоящими из множества элементов, связанных между собой зачастую нетривиальным образом. По мнению специалиста в этой области Е.Н. Князевой, именно запутанность связей между элементами, а вовсе не их количество, является основным условием возникновения сложных систем: «Сложными являются те объекты (системы, образования, организации), описать функции которых на порядок сложнее, чем описать само строение этих объектов» [21, c. 61].
Итак, в большинстве постнеклассических направлений сам процесс познания отнесен к сложным саморазвивающимся системам, действующим посредством циклической детерминации и совмещающим субъект и объект в рамках целостной системы. В последние десятилетия в сфере гуманитарного знания особый статус приобретает комплексный синергетический подход, способный на базе междисциплинарности более конструктивно исследовать человека, как основной структурообразующий элемент неравновесных открытых систем, однако автоматическое перенесение естественнонаучного инструментария в сферу познания «живых систем» связано с целым рядом недооценок, просчетов и методологических проблем.
Релятивизация знания (постмодернистская дискурсивность)
Cущественным фактором трансформации гуманитарного познания в современную эпоху становится релятивизация знания и замыкание его в постмодернистской дискурсивности: «…сегодня получи ло распространение мнение, выдаваемое за выражение «постмодернистской чувствительности», в соответствии с которым теряется принципиальное различие между знанием и незнанием, между истиной и ложью, между наукой и не наукой. Среди части культурной элиты возникает мнение, что сегодня «исчезает пафос поиска истины» и торжествует игровое отношение к жизни» [37, c. 15]. С переходом к постиндустриальному обществу философская мысль стала постулировать непознаваемость сущего в контексте единой универсальной методологии («крах метанарратива» по терминологии Ф. Лиотара). На смену картезианству пришло субъективное выстраивание картины мира в зависимости от дискурса, задействованного в рамках определенного нарративного массива. Многие мыслители-постмодернисты обосновывают относительность всякой гносеологии: «деконструкция» (Ж. Деррида), «смерть автора» (Р. Барт, М.Фуко), «ризома» (Ж. Делёз, Ф. Гваттари) и др., замыкаясь в рамках языковых игр и фактически самоустраняясь от влияния на ход развития нынешнего информационного общества. Повсеместная фрагментация общественного сознания и архаизация познавательного процесса, как указывает знаменитый итальянский мыслитель Умберто Эко, во многом предопределили ситуацию «нового средневековья». Как отмечает академик В. Лекторский: «Не столь уж многие философы решаются прямо называть себя релятивистами, хотя систематически подозревают в нём друга друга, и нередко не без основания. Философия второй половины XX в. и начала века XXI в целом пронизана релятивистскими настроениями: как аналитическая философия, так и в особенности постмодернизм. И это не случайно, ибо выражает определённые особенности современной культуры и социальной жизни и имеет прямое отношение к миру повседневности, т. е. касается каждого человека» [24, c. 5].
ло распространение мнение, выдаваемое за выражение «постмодернистской чувствительности», в соответствии с которым теряется принципиальное различие между знанием и незнанием, между истиной и ложью, между наукой и не наукой. Среди части культурной элиты возникает мнение, что сегодня «исчезает пафос поиска истины» и торжествует игровое отношение к жизни» [37, c. 15]. С переходом к постиндустриальному обществу философская мысль стала постулировать непознаваемость сущего в контексте единой универсальной методологии («крах метанарратива» по терминологии Ф. Лиотара). На смену картезианству пришло субъективное выстраивание картины мира в зависимости от дискурса, задействованного в рамках определенного нарративного массива. Многие мыслители-постмодернисты обосновывают относительность всякой гносеологии: «деконструкция» (Ж. Деррида), «смерть автора» (Р. Барт, М.Фуко), «ризома» (Ж. Делёз, Ф. Гваттари) и др., замыкаясь в рамках языковых игр и фактически самоустраняясь от влияния на ход развития нынешнего информационного общества. Повсеместная фрагментация общественного сознания и архаизация познавательного процесса, как указывает знаменитый итальянский мыслитель Умберто Эко, во многом предопределили ситуацию «нового средневековья». Как отмечает академик В. Лекторский: «Не столь уж многие философы решаются прямо называть себя релятивистами, хотя систематически подозревают в нём друга друга, и нередко не без основания. Философия второй половины XX в. и начала века XXI в целом пронизана релятивистскими настроениями: как аналитическая философия, так и в особенности постмодернизм. И это не случайно, ибо выражает определённые особенности современной культуры и социальной жизни и имеет прямое отношение к миру повседневности, т. е. касается каждого человека» [24, c. 5].
С точки зрения методолога науки Ирины Черниковой, позитивная программа преодоления постмодернистской дискурсивности предлагается школой «нового конструктивизма» французского психолога Сержа Московичи: «В отличие от постмодернизма, заменившего изучение психологических процессов (смерть субъекта) анализом дискурсивных позиций участников лингвистической деятельности, новейший конструктивизм (позиция С. Московичи) значительно усиливает когнитивистские тенденции, преодолевает крайности репрезентативной концепции знания и постпозитивистской (языковые игры). Новый конструктивизм в отличие от радикального конструкционизма признает относительную автономию социальной реальности и ее "власть" над индивидом, но в то же время он обращается к изучению тех процессов, посредством которых психологические феномены продуцируют эту реальность, оставаясь ее продуктами. Субъект не копирует объект, а вступает с ним в отношение, названное Ю. Хабермасом отношением коммуникативного действия. Происходит возврат к знанию-представлению, но представление здесь служит выражением и субъекта, и объективного мира, являясь продуктом их отношений» [48, c. 156]. По ее мнению, особый онтологический статус в современном познании приобретает коммуникация, становящаяся главной структурообразующей основой: «Коммуникация выступает не только как форма общения, она обретает философский смысл. Это способ бытийствования современного мира. Коммуникация имеет онтологический смысл, может вызвать синергетический эффект — формирование нового знания, новых культурных смыслов в единстве когнитивного, морального и эстетического. Таким образом, в современном естествознании произошел поворот от предметно-ориентированного познания к познанию реальности, понимаемой как взаимосвязи, отношения: от реальности вещной, зримой к реальности, конституируемой в сознании» [48, c. 157–158].
Оригинальное видение гуманитарного познания в контексте преодоления постмодернистской дискурсивности XXI в. предложено в фундаментальных трудах известного российско-американского культуролога Михаила Эпштейна «Знак пробела: О будущем гуманитарных наук» (2004) и «От знания – к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир» (2016). По его мнению, неуклонное изменение гуманитарных дисциплин в последние годы, обусловленное масштабными переменами в обществе, не столько свидетельствует об их кризисе, сколько диагностирует переход к новой «постчеловеческой» реальности. Согласно Эпштейну, аберрация сознания многих выдающихся мыслителей современности, признающих упадок гуманитарного познания и пытающихся искать из него выход, заключается в излишнем фокусировании на факте завершения предшествующей эпохи. С доминирования посмодернистского направления философии начинается неоправданное возвеличивание мифологемы «конца истории» (Ф. Фукуямой), обозначаемое добавлением приставки «пост» ко всем проблемным сегментам меняющейся социокультурной реальности: «посткоммунизм», «посткультура», «пострелигия», «постсекуляризация», «постлиберализм, «постчеловечество» и пр. В таком подходе по его убеждению имплицитно присутствует неоправданная рефлексия посредством отсылок, репрезентаций и многократных цитирований к уже отжившим явлениям, между тем главное внимание должно быть направлено на анализ процессов, приходящих им на смену. Он замечает, что уже в конце 1980-х годов сформировался целый мировоззренческий кластер, вещающий неминуемый конец всему, названый известным политологом С. Хантингтоном – «эндизм» («endism»). По мнению Эпштейна, в данном случае более уместно использование префикса «прото»: «протоглобальный», «протоинформационный, «протобиотехнологии», «протоинтеллект», «протоценности» и т.д. Это резко меняет смысловые оценки современности, указывая не на окончательный диагноз, а лишь на один из «прото-сценариев» будущего: «Мы не можем заведомо знать, протофеноменом чего является то или другое в момент его возникновения, нам остается лишь предположение и надежда. "Прото-икс" – значит, имеющий склонность становиться иксом, развиваться в направлении икс. В отличие от международной приставки "пре" или русской "пред" ("preglobal", "предглобальный"), "прото" в нашем понимании указывает не на порядок во времени, а на открытую возможность, зародышевую стадию явления» [51, c. 32]. Культуролог подчеркивает, что гуманитарная наука конца XX в., находящаяся под властью префикса «пост» (постмодернизм, постструктурализм, постгуманизм и т.д.), лишая себя самостоятельной цельности, не привнесла в научную мысль ничего принципиально нового и позитивного. Данная тенденция лишь указывала на несостоятельность проектов, проходящих под маркировкой «пост», ведь, пытаясь выйти за пределы, очерченные предшественниками, «пост»-направления в действительности паразитировали на них. Качественное отличие состояния «пост» от состояния «прото» заключается в том, что первое как бы отменяет предшествующий этап развития, в то время как второе – пытается его углубить и расширить.
По Эпштейну, преобладающий в современном гуманитарном знании уклон в трансдисциплинарность свидетельствует, что наука в первую очередь является не столько отражением объективного знания о действительности, сколько одним из способов коммуникации. В особенности меняется роль текста, который перестает быть просто методом фиксации информации и переходит из литературной модальности в цифровую. Характерными чертами «цифрового» текста становится гибкость, динамичность и «кочевой» образ существования. «В отличие от стабильных, готовых текстов, они представляют собой жидкие конфигурации знаков, подчиненных таким командам, как «вырезать», «копировать», «вставить», «найти» или «заменить». С другой стороны, Интернет дает его пользователям даже больше свободы, чем устное сообщение: мы можем вставить наш голос в высказываниях других людей, прерывать или спонтанно трансформировать другие тексты» [54, c. 70]. Отталкиваясь от теории диологичности М. Бахтина, он делает вывод, что информация, заложенная в каждом отдельном тексте, может себя проявить только в контексте взаимодействия с другими текстами. Однако в процессе диалога тексты не просто проявляют изначально заложенный в них смысл, но и, трансформируясь, обретают новую форму (ретекстуализация). Он выделяет три уровня знаковой активности: комбинационный, описательный и формативный [54, c. 96], констатируя, что большая часть написанных человечеством текстов относится к первому типу языковой активности. Ко второму типу относятся лингвистические исследования, словари и учебники грамматики. Язык третьего порядка является наиболее редким и занимается созданием новых знаков (семиургией). Ученый признает, что чем более «зрелым» является язык, тем сложнее привносить в него какие-то изменения. Однако с появлением Интернета ситуация кардинальным образом изменилась, т.к. теперь созданы условия, в которых процесс выявления новых знаков и смыслов приобретает характер творчества, доступ к которому есть практически у всех пользователей (формирование транскультурного общества).
Эпштейн считает, что в отличие от наук точных, сводимых к набору формул и движимых монологикой, гуманитарные развиваются путем взаимодействия человека-исследователя с предметом его исследования: «существующее у человека сознание трансформирует весь смысл мира, даже если это мир никогда не отразится и не будет освещен в сознании» [54, c. 62]. На основе анализа он выделил три этапа развития гуманитарных наук: 1) объект изучения – человеческое «Я», где его суть понималась как противоположная божественной природе и внешнему миру (эпоха Возрождения); 2) объект изучения – «другое во мне», определяемое различными способами (бессознательное у З. Фрейда, социально-экономическое у К. Маркса и т.д.); 3) объект изучения – «Я в целом» (трансгуманистическое знание, как совокупность «внутричеловеческих» способностей и «внечеловеческих» сил) [54, c. 65].
В рамках постмодернизма человек сам по себе, констатирует Эпштейн, перестал представлять интерес для академического дискурса: «гуманитарные науки в современном академическом мире заинтересованы в основном в текстах и их критических интерпретациях, а также в гиперкритических интерпретациях этих интерпретаций» [54, c. 283]. Решение проблемы он видит в разработке практик гуманитарного знания (подобно политике для социальных наук и технологии для естественных наук). Особые надежды возлагаются им на междисциплинарные исследования, способные, по его мнению, дать адекватный ответ на вызовы XXI в. Отталкиваясь от принятого в современной физике понятия «белые дыры», означающее мнимые объекты (допустимые только в мысленных экспериментах), он приходит к заключению, что самое слабое звено гуманитарного познания – это сам познающий субъект, который не может быть каким-либо образом обозначен, прерывая всякий ментальный процесс и оказываясь паттерном, равнозначным пробелу в тексте: «Человек становится другим для себя, как только превращается в предмет науки, тем самым определяясь и как ее немыслимый субъект, надчеловек. Взаимообратимость субъекта и объекта придает всему проекту гуманитарных наук шаткость, колебательность, подрывает их объективно научные основания. В представлении М. Фуко, с самого начала гуманитарные науки полагали внутрь своего предмета радикальный пробел, нечто немыслимое, ибо таково свойство гуманитарности как саморефлексии, учреждающей рядом с человеком его темного, непостижимого двойника, иное-во-мне, благодаря чему я только и могу мыслить себя, тем самым становясь не-собой»…‹…›…Человек — пробел в своем знании о себе. Он предстает нам только со спины, как персонаж гуманитарных исследований, как «он» — историческая фигура, деятель культуры, писатель, мыслитель, воин, любовник, царь или дитя природы, собеседник или соперник Бога... Но мы не можем заглянуть в лицо человеку смотрящему, т. е. самим себе: вместо этого открывается пустой силуэт…‹…›…Раньше человек, ища себя в себе, находил Бог, потом — природу, теперь — машину. Человек видит все, кроме себя; себя он видит только со спины, как другого. Задача гуманитарных наук - повернуть человека лицом к самому себе – невыполнима. Именно эта проблематичность гуманитарного знания как самопознания отозвалась во всей системе научного знания XX века» [51, c. 7].
Постулируя, что «поле гуманитарности состоит из размывов и зияний ускользающей от себя рефлексивности, распадающихся фрагментов языка и разрастающихся знаковых лакун» он предлагает выделять два структурообразующих процесса: критическую сторону гуманитарности (демистификация собственной научности) и конструктивную сторону гуманитарности (построение новых знаково-символических систем, в которых сам гуманитарный субъект превращается из «означающего» в «означаемое»). Указывая на неизбежность движения гуманитарного и естественнонаучного познания навстречу друг другу в обосновании «антропного принципа» (Д. Бом, Ф. Дайсон, П. Дэвис, Р. Пенроуз, Д. Уилер), он подчеркивает, что главным основанием для консенсуса должно стать признание, что человек – это главное недостающее звено в «великой цепи бытия» [51, c. 13]. Он убежден, что поворот к гуманитарной проблематике, вопреки позитивистским установкам, был закономерно предопределен всем ходом развития науки XX в. (теорема Гёделя о неполноте, теорема Черча о неразрешимости, теорема остановки Тюринга, теорема Тарского об истине и др.): «По сути, все дисциплины, от которых зависит будущее цивилизации, включая математику, кибернетику, информатику, когнитивистику, семиотику, нейропсихологию, теорию и практику построения искусственного интеллекта, — все они оказываются заложниками специфически гуманитарной проблемы» [51, c. 15].
Культуролог выступил с оригинальной программой познавательного «концептивизма» (лат. «conception» – зачатие, зарождение), которому противопоставляется бесплодное теоретизирование, не рождающее ничего нового: «Мыслить концептивно – значит зачинать от предмета своей любви, не просто изучать культуру, но создавать нечто новое в процессе изучения. Многие современные методологии по сути «контрацептивны», поскольку направлены лишь на критику текстов и авторов. Критицизм обусловлен представлением о редкости, онтологической бедности мира: что-то в нем заслуживает уничтожения, а на место неправильного нужно насадить правильное. Методология критицизма, ревности, разоблачения тоже может быть связана с любовью, но несчастной, подозрительной. Концептивизм – это конструктивное мышление, которое рядом с данным явлением культуры – и благодаря ему – обнаруживает множество лакун, вакансий, подлежащих заполнению. Концептивизм – умножение мыслимых объектов путем создания их альтернатив, вариаций, соперничающих моделей» [52, c. 9].
С точки зрения М. Эпштейна, предложенный им подход противоположен методу деконструкции, сторонниками которого в последние десятилетия являются многие представители постмодернистской и постструктуралистской философии: «Деконструкция, методологически преобладавшая в 1980–2000-е годы в академических кругах, показывает многозначность и вариативность текстов, игру разных смыслов, часто противоречащих тoму, что автор имел в виду. Деконструкция читает тексты критически: автор подразумевал одно, а выразилось совсем другое. Концептивизм, наоборот, стремится обозначить весь ансамбль возможных культур, или дисциплин, или концептов, которые вырастают из данного текста. Исследуя какую-то идею, метод, дисциплину, концептивизм спрашивает: а что со-возможно им? Почему есть феноменология, наука о явленном, но нет тегименологии – науки об упаковках, оболочках? Почему есть лингвистика, но нет силентики – науки о способах молчания и умолчания, о паузах? Почему есть множество букв и символов для обозначения разных фонем, но нет знака пробела, «», который указывал бы на тот чистый фон, который делает возможным означивание? В отличие от деконструкции, концептивизм не просто расшатывает основание какой-то системы понятий, показывает ее зыбкость и относительность, оставляя читателя перед лицом скептического и иронического "ничто", – но развертывает ряд альтернатив для каждой теории и термина. Не критикует их, а вводит в раздвигающийся ряд понятий, каждое из которых иначе трактует то же самое явление» [52, c. 9–10].
Следует заметить, он не усматривает проблемы в отмечаемой многими немыслимой дифференциации нынешнего гуманитарного познания, напротив, выступая сторонником «ветвящихся и расходящихся дискурсов» и предлагая целый ряд новых гуманитарных дисциплин: скрипторика (изучение «человека пишущего»); техногуманистика (изучение человека как создателя техносреды); экогуманистика (изучение человека как части экосистемы); хоррология (изучение механизмов саморазрушения и сохранения цивилизации); культуроника (изучение новых культурных ценностей и институций) и т.д.
В гуманитарном исследовании, согласно М. Эпштейну, важна не строгость метода, а творческая нацеленность и жажда поиска, поэтому допустимо использовать наряду с индуктивными и дедуктивными не сводимые к ним абдуктивные рассуждения (термин «абдукция» (от лат. ab – от и лат. ducere – водить) был введен в оборот в 1901 г. американским философом-прагматиком Ч. Пирсом), т.е. заключение, сделанное на основе одной из гипотез, приводящей к наилучшему объяснению. «Когда-то заботились о верности метода, теперь критерием становится веерность, широта предложенных альтернатив. Логика, стоящая за концептивизмом, противоположна редукции, которая сводит многоразличное к единому. В данном случае, наоборот, одно обнаруживает множественность, отличие от себя, раскладывается на ряд инаковостей. Такой логический прием можно назвать «абдукцией»: это перенесение понятия из того ряда, в котором оно закреплено традицией, в другие, множественные, расходящиеся ряды понятий. Концептивизм продолжает работу деконструкции по «рассеянию» смыслов, но переводит эту работу из критического в конструктивный план и может быть оксюморонно назван «конструктивной деконструкцией»[52, c. 10].Мыслитель приходит к выводу о необходимости особой методологической системы гуманистики, подчеркивая, что она должна быть достойна своего предмета – человека, т.к. «он есть творец всех наук, но только в гуманитарных познает себя как творца….он становится творцом или сотворцом тех человеческих миров, которые изучает, – и одновременно перестраивает, перекодирует, усложняет их в процессе такого активного изучения» [52, c. 6].
Итак, в контексте постмодернисткой философии происходит замыкание в языковых играх и фактическое самоустранение от влияния на ход когнитивного процесса. С точки зрения отдельных исследователей, неоправданной рефлексии посредством отсылок и цитирований должно быть противопоставлено трансдисциплинарное знание, направленное на поиск новых методологических, коммуникативных и содержательных способов самовыражения.
Можно констатировать, что переход к постнеклассической картине мира сопровождается когнитивными, мировоззренческо-этическими, методологическими и иными трансформациями в гуманитарном познании, обусловленными рядом исторических и социокультурных факторов. Из вышеизложенного следует ряд выводов.
Во-первых, в настоящее время особую роль играет полномасштабное и последовательное перенесение познавательного процесса в информационное поле, сопровождаемое деструктуризацией знания, ростом псевдонауки, возникновением альтернационного (клипового) мышления, поколенческим разрывом, снижением качества образования, подменой культурных ценностей. В контексте хаотизации сведений о мире и ценностных ориентиров наиболее проблемными кластерами информационного общества становятся – неоправданное отождествление получения знания с использованием информации и стирание грани между достоверными сведениями и сфальсифицированными «фейковыми конструкциями».
Во-вторых, знаком времени стала востребованность в мультимедийную эпоху в средствах массовой информации и отдельных научных изданиях конспирологического подхода. Большая часть объяснительных моделей конспирологов, вопреки самоидентификации, не могут претендовать не только на уровень теории, но и гипотезы в строго научном смысле, представляя собой бездоказательные умозаключения. Популярность такого осмысления социально-экономических и геополитических реалий, представляющего собой одну из форм секуляризированной мифологии и жанр литературного творчества, свидетельствует, с одной стороны – об утрате доминирующего положения научной методологии, а с другой стороны – об актуальности среди интернет-потребителей упрошенной зрелищной масскультуры, поверхностного восприятия действительности, жажды сенсации.
В-третьих, уже к концу ХХ в. принципиально значение имело преодоление сциентистской модели, построенной на картезианстве и пересмотре отношения к рациональным и внерациональным формам познания. Вследствие новейших открытий (квантовая механика, кибернетика, теория систем, нейропсихология, философия сознания и др.) стало очевидным, что редукционистское выстраивание мира как слаженно работающего «часового механизма» обедняет понимание реальности, представляющей собой не замкнутые, а открытые нелинейные системы. На смену механистической картине, где все взаимодействия объектов статичны и строго детерминированы приходит целостная (холистичная) картина мира как непрерывного становления (саморазвития) динамичных и неравновесных субъект-объектных связей и отношений. Формы понятийно-логического и иррационального познания (мифология, религия, обыденное знание) рассматриваются как взаимодополнительные механизмы единого процесса.
В-четвертых, актуальной в условиях инфополя становится проблема междисциплинарности (трансдисциплинарности), возникающая в гуманитарной сфере при некритическом использовании понятийно-категориального аппарата, заимствованного из естественнонаучных дисциплин. Как следствие, наблюдается произвольное и расширенное толкование многими учеными-гуманитариями синергетического подхода. В результате автоматического перенесения инструментария точных наук в область познания «живых систем» возникает ряд просчетов и методологических проблем.
В-пятых, в современную эпоху происходит релятивизация знания, по сути, отрицая познаваемость сущего в контексте универсальной методологии. Налицо субъективное выстраивание познавательных моделей в зависимости от дискурса, задействованного в определенном нарративе. Одна из альтернатив «постмодернисткой деконструкции» предложена в программе концептивизма культуролога М. Эпштейна (концепция гуманистики). Наряду с индукцией и дедукцией предлагается использовать в изучении человека метод абдукции. Делается вывод, что в гуманитарном исследовании определяющее значение должна иметь не строгость метода, а творческая нацеленность и жажда поиска. Констатируется, что в рамках «ветвящихся дискурсов» не только допустима, но и необходима разработка новых подходов (скрипторика; техногуманистика; экогуманистика; хоррология; культуроника и др.).
Таким образом, многие факторы указывают на трансформацию современного гуманитарного познания, в котором главным объектом исследований становятся сложные саморазвивающиеся системы, включающие основным структурообразующим компонентом «человекоразмерность». Происходит кардинальный пересмотр приоритетов исследовательского процесса. Вследствие перенесения когнитивной деятельности в сферу высоких технологий, при сохранении авторитета науки, нивелируются ее статус, видоизменяется социальная база и каналы коммуникации. Принципиальное значение в этих условиях приобретает поиск инновационных идей, позволяющих разрешать существующие проблемы и противоречия.
1. Бен-Итто Хадасса. Ложь, которая не хочет умирать: "Протоколы сионских мудрецов": столетняя история / Пер. с англ. С. Ильина. - М.: Рудомино, 2001. - 477 с.
2. Болдачев А.В. Новации. Суждения в русле эволюционной парадигмы. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. - 256 с.
3. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. Изд. 3-е испр. - М.: Издательство ЛКИ, 2008. - 240 с.
4. Буркина И.В. Эдукология синергетического поиска гуманитарных технологий образования // Педагогика. «Наука. Инновации. Технологии». - №2. - 2013. - С. 15-22.
5. Винер Н. Кибернетика и общество / пер. Е. Г. Панфилова; общ. ред. и предисл. Э. Я. Кольмана. М.: Изд-во иностранной литературы, 1958. - 199 с.
6. Волкова Э.Н. Отношение «учитель - ученик» в традиционной и современной культуре // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. Серия «Культурология. Искусствоведение. Музеология». - 2008. - № 10. - С. 42-47.
7. Гайденко П.П. Проблема рациональности на исходе ХХ века // Вопросы философии. 1991. - №6. - С. 3-14.
8. Грановская Р. Люди с клиповым мышлением элитой не станут [Электронный ресурс]. URL: http://econet.ru/articles/67553-rada-granovskaya-lyudi-s-klipovym-myshleniem-elitoy-ne-stanut (дата обращения: 26.11.2017).
9. Дворников В.В., Иванов Ю.В. Проблема псевдонауки и квазирелигии в условиях информационного общества // Власть и общество: история взаимоотношений. Материалы Десятой региональной научной конференции (г. Воронеж, 19 марта, 2016 г.). / Под. общ. ред. В.Н. Глазьева. - Воронеж: «ИСТОКИ», 2016. - С. 462-468.
10. Дворников В.В. О некоторых аспектах современного образования в контексте изменения мировоззренческой парадигмы // Наука и образование: тенденции и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции (Уфа, 25-26 июня 2014 г.). - Уфа: РИО ИЦИПТ, 2014. - С. 107-115.
11. Джон Ролстон Сол. Ублюдки Вольтера. Диктатура разума на Западе. Пер. с анrл. А.Н. Сайдашева ¬ М.: АсТ: Астрель, 2007. - ¬ 895 с
12. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке [Электронный ресурс]. URL: http://www.nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9031/druker_managementXXI_ru.pdf (дата обращения: 28.10.2017).
13. Дугин А. Коспирология - веселая наука постмодерна // [Электронный ресурс]: URL: http://ead24.ru›fb2/aleksandr-dugin-konspirolog (дата обращения: 19.09.2016).
14. Ефимов А. Платон мне друг, но истины не надо. Как слово post-truth, названное «словом года», повлияет на нашу жизнь // [Электронный ресурс]: URL: https://nplus1.ru/material/2016/11/21/post-truth-world (дата обращения: 17.11.2017).
15. Ильин Г. От педагогической парадигмы к образовательной // Высшее образование в России. 2000. №1. [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ot-pedagogicheskoy-paradigmy-k-obrazovatelnoy (дата обращения: 22.11.2017).
16. К Адвентистам Седьмого Дня. О теории заговора // [Электронный ресурс]: URL: http://www.ostatok.net/teoria_zagovora_konspirologia.html (дата обращения: 27.10.2017).
17. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием // [Электронный ресурс]: URL: http://royallib.com/book/karamurza_sergey/manipulyatsiya_soznaniem.html (дата обращения: 24.11.2017).
18. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ.; под науч. ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 608 с.
19. Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе / пер. с англ. А. Матвеева; под ред. В. Харитонова. Екатеринбург: У-Фактория; Изд-во Гуманитарного ун-та, 2004. - 328 с.
20. Кашин О. О самой важной версии по поводу малайзийского «Боинга» / Конспирология и история / [Электронный ресурс]: URL: http://oko-planet.su/politik/politikday/249469-konspirologiya-i-istoriya.html (дата обращения: 17.10.2016).
21. Князева Е.Н. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2014. - 352 с.
22. Колин К.К. Философия информации и структура реальности: концепция «четырех миров» // Информационное общество. Знание. Понимание. Умение. - 2013. - №2. - С. 136-147.
23. Коулман Д. Комитет 300. Тайны мирового правительства // [Электронный ресурс]: URL: http://knigosite.org/library/books/10261 (дата обращения: 18.10.2016).
24. Лекторский В.А. Релятивизм и плюрализм в современной культуре // Релятивизм как болезнь современной философии / Ответ, ред. В. А. Лекторский - М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2015. - 392 с.
25. Лекторский В.А. Гуманизм как идеал и как реальность // Идеал, утопия и критическая рефлексия. - М.: РОССПЭН, 1996. - 302 с.
26. Матурана У., Варела Ф. Древо познания. Перевод с англ. Ю. А. Данилова // Ф. Варела, У. Матурана. - М.: Прогресс-Традиция, 2001. - 224 с.
27. Моисеев Н.Н. Кризис современного образования [Электронный ресурс]. URL: http://www.itmathrepetitor.ru/n-n-moiseev-krizis-sovremennogo-obraz/ (дата обращения: 29.11.2017).
28. Моисеев Н. Н. Универсум. Информация. Общество. М.: Устойчивый мир, 2001. - 200 с.
29. Морен Э. Метод. Природа Природы. Перевод с фр. Е. Н. Князевой. - M.: Прогресс-Традиция, 2005. - 464 с.
30. Неклюдов С. Гильотина как эффективное средство от мигрени [Электронный ресурс]. URL: http://polit.ru/author/neklyudov/ (дата обращения: 14.09.2015).
31. Нагель Т. Каково быть летучей мышью? Пер. с англ. М. А. Эскиной. - Самара: Бахрах-М, 2003. - С.13. / [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/nag_kak.php(дата обращения: 14.11.2017).
32. Ореховская Н.А. Эволюция массового сознания россиян / отв. ред. Ю. Г. Волков; Южный федеральный ун-т; Северо-Кавказский науч. центр высш. шк. Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 2011. - 286 с.
33. Панченко А. Антропология и конспирология. Теории заговора в современной России // Антропологический форум. - 2015. - №27. - С. 89-94.
34. Померанц Г.С. Распадающаяся вавилонская башня // [Электронный ресурс]. URL: https://aldebaran.ru/author/pomeranc_grigoriyi/kniga_raspadayushayasya_vavilonskaya_bashnya/ (дата обращения: 14.10.2017).
35. Померанц Г.С. Выход из транса. - М.: Юрист, 1995. - 576 с.
36. Поппер К. Открытое Общество и его враги. т. 2. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. - М.: Изд-во «Феникс», 1992. С. 113. - 528 с.
37. Псевдонаучное знание в современной культуре: Материалы круглого стола // Вопросы философии. - 2001. - № 6. - С. 11-39.
38. Сапронов М.В. Синергетический подход в исторических исследованиях: новые возможности и трудности применения // Общественные науки и современность. - 2002. - №4. - С. 158-172.
39. Седякин В.П. Информация и знания // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «Философия. Социология. Право». - 2009. - № 8 (63). - С. 180-187.
40. Сёрл Дж. Сознание, мозг и наука // Путь, 1993, №4. - С. 3-66.
41. Скворцов Л.В. Информационная культура и цельное знание. М.: Изд-во МБА, 2011. - 440 с.
42. Степин В.С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения // Постнеклассика: философия, наука, культура. СПб.: Издательский дом «Мiръ», 2009. С. 249-295.
43. Султанова М.А. Философия контркультуры Теодора Роззака: очерк философской публицистики / Ин-т философии РАН. М.: ИФРАН, 2009. - 175 с.
44. Тростников В.Н. Человек и информация. М.: Наука, 1970. - 186 с.
45. Туркина В.Г. Синергетическая парадигма в гуманитарных науках // Ученые записки: философия и культурология. - №4. - 2008. - С. 145-149.
46. Фурсов А.И. Конспирология - веселая и строгая наука / [Электронный ресурс]: URL: http://www.rikmosgu.ru/publications/3559/4210/ (дата обращения: 21.10.2016).
47. Чернавский Д.С. Синергетика и информация. Динамическая теория хаоса. М.: Наука, 2001. - 105 с.
48. Черникова И.В. Постнеклассическая наука и философия процесса. - Томск: Изд-во НТЛ, 2007. - 252 с.
49. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. - 832 с.
50. Эйдельман Е.Д. Ученые и псевдоученые: критерии демаркации // Здравый смысл. 2004. - № 4 (33). - С. 19-24.
51. Эпштейн М.Н. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук - М.: Новое литературное обозрение, 2004. - 864 с.
52. Эпштейн М.Н. От знания - к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. - 480 с.
53. Эпштейн М. Информационный взрыв и травма постмодерна [Электронный ресурс]. URL: http://old.russ.ru/journal/travmp/98-10-08/epsht.htm (дата обращения: 19.11.2017).
54. Epstein M. The transformative humanities: a manifesto / Mikhail Epstein ; translated and edited by Igor Klyukanov. - London: Bloomsbury Publishing Plc. - 318 p.