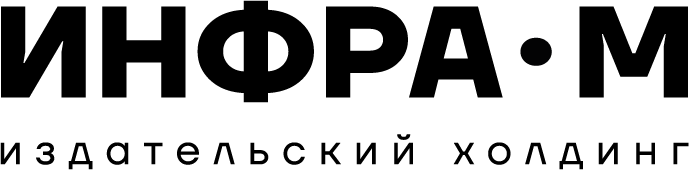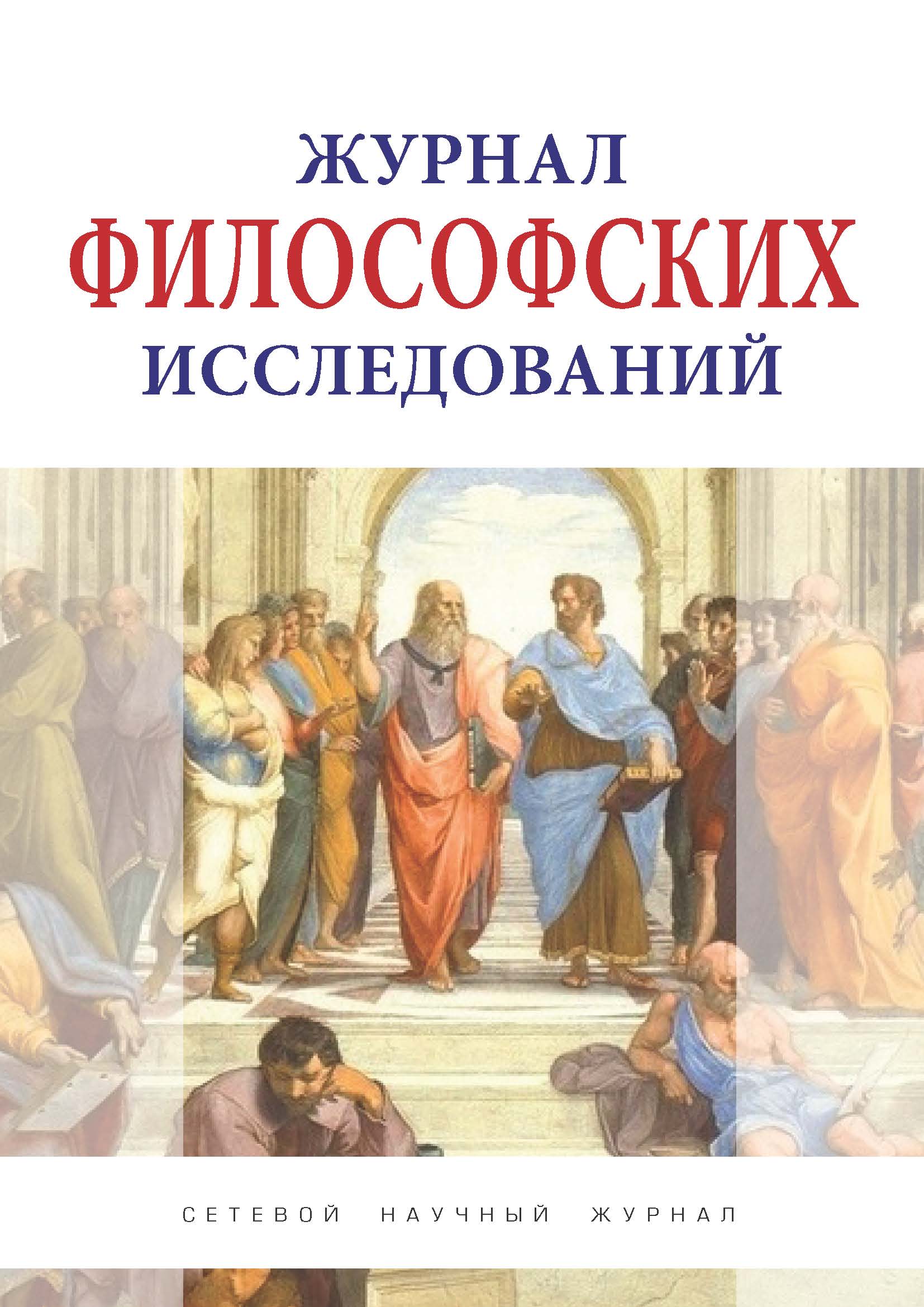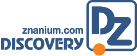In the following article the issue of a subject and its deformations through gender studies is presented. Especially the layer of masculinity is seen as a thing of a profound importance since the dominant patterns of a personal existence and its forms have strong bonds with the premier vision of a human as an active creature producing interactions towards the world, which is manifested mainly in a masculinity. The central point of this article articulates the approach stating that masculinity should be interpretated more widely, as its role historically was too crucial for being associated only with men. Masculinity highlights a shared standard of constructing out own subjectivity and is seen as a corpus of action practices. The article states the absence of a subject that is gained as a result of an exchange for a formulated canon of life integration that is fully expressed in a phenomenon of a masculinity. This evidence leads to a agender tendency of self-formation, as well as creates a path for a further discussion about personal/subjective ontology which is formed a result of a performative shift faced by an open horizonal society nowadays.
subject, action, new subjectivity, masculinity, men`s studies, gender studies, ontology, agender
Введение
Перед прочтением представлю описание первичной гипотезы для достаточной репрезентативности излагаемого в статье материала.
Первоначальная тема рассуждения, породившая результирующую гипотезу, звучала так: «Восприятие культурных трендов в свете маскулинности (например, «почему некогда пацанские паблики были популярны, были легитимной формой маскулинности, а сейчас – нет?»). Основная гипотеза заключалась в следующем: интересы и приоритетные для индивида сферы деятельности являются ресурсом для маскулинного идеала. Гендерная идентичность и её приоритетная модель в сущности своей представляют собой лишь способ агентного включения в сферу интереса для приобщения к ней. Причины формирования интересов и приоритетных сфер деятельности, в свою очередь, связаны с представлением об успешной, оптимальной и положительной поведенческой схемой / моделью. Я решила построить проверку гипотезы на основании выявления связи приоритетных моделей маскулинности испытуемого со сферами жизненных приоритетов и деятельности с сопряженными с ними ценностными блоками. Интересны мне были приоритетные модели маскулинности для мужчин на основании мужчин − ролевых моделей, с учётом сферы их профессиональной деятельности, антиролевые модели, а также рефлексия мужчин относительно образов их идеалов в разное время. Вопрос об отношении к гомосексуальности в этом рассмотрении служит лакмусовой бумажкой, выявляющей не артикулируемые границы идентичности.
Основные выводы: первоначальная гипотеза гласила, что интересы и приоритетные для индивида сферы деятельности являются ресурсом для маскулинного идеала. Гендерная идентичность и её приоритетная модель в сущности своей представляют собой лишь способ агентного включения в сферу интереса для приобщения к ней. Я думаю, она нашла своё подтверждение – маскулинность выражает свойства человеческого идеала для мужчины, но в целом избираемые приоритетные ролевые модели маскулинности напрямую зависели от ценностей и картины мира. Можно предположить, что маскулинность является в этом случае и вообще может являться инструментом приобщения к той или иной ценностной сфере деятельности.
Хотя базовые концепции маскулинности и читались в ходе аналитики и наблюдений (гетеронормативность, лидерство, физическая сила, а это явные критерии гегемонической маскулинности), они приравнивались к более общечеловеческому способу конструировать себя. Основные сферы деятельности и интерес к ним были первичной мотивацией выбора ролевых моделей. Результаты наблюдения наталкивают на мысль о «маскулинности как социальном идеале», где маскулинность – это своего рода конфигурация социальных приоритетов. Маскулинность для мужчины будто бы неотчуждаемый фундамент «я» и также по совместительству инструмент участия в сферах жизни, являющихся приоритетными, отношение к персонажам жизни соотносится со сферами их существования (отношение к Невзорову меняется исключительно исходя из ценностного аспекта). Наблюдается гетеронормативность с умеренной гомофобией. Важно отметить, что doinggender сопряжено со следованием идеалам и качествам, определяемые как положительные. Значит, как было замечено выше, маскулинность – фундаментальное свойство базового человека, «эталон человека – это мужчина». Однако из этого следует социальная роль маскулинного статуса. Маскулинность – маячок сферы деятельности, социальный маркер. Наблюдаются универсальные представления о сущности умений мужчины, но они не артикулируются в отдельную идентичность, они часть сфер, где находят своё проявление (маскулинность вписана в сферы). То есть уровень рефлексии собственной маскулинности довольно низок, идентичность играет социальную роль единства с миром, желаемым для мужчины (с мужским миром по совместительству). Яркого отделения мужского и женского, сознательно артикулируемого, не наблюдается, хотя женщина как универсалия не существует, хотя принцип оценки мужчин и женщин однороден.
План работы
- Обзор проблемы де-субъектификации.
- Маскулинность как социальный маркер сферы.
- Маскулинность как максимальная проявленность и иллюзия сверх обладания (субъектностью).
- Романтизация мужской сломленности (ботаник, герой песни «взрослые травмы»), как предмет видения маскулинности как стержня нормализации.
- Широта явления маскулинности.
- Отсутствие субъекта в свете наличия гендера.
- Заключение.
- Обзор проблемы де-субъектификации
Преобладание субъектной парадигмы при рассмотрении философских и социологических процессов – факт неоспоримый. Действие вверяется субъекту, ему же присущи характеристики, также абстракции всегда обладают неким носителем (ещё со времён мышления мира, где разумный принцип исходит из Ума, Нуса у Аристотеля, а у Гегеля источник процесса и истории – Абсолютный Дух). Резонно предположить, что субъектная парадигма сжимает возможность помыслить феномен, и при своём наличии в качестве априорной рамки рассмотрения порождает не артикулируемые, но влиятельные следствия. К примеру, бинаризм маскулинного и фемининного безоговорочно привязан к мужчине и женщине как к их «естественным источникам», которые, в свою очередь, субъектны. При бинаризме и принятии его социальное действие не может быть вне субъектной аффилиации – в результате воззрения оно становится либо мужским, либо женским. Но на этом этапе производства суждения встаёт разумный вопрос – разве действие не может обладать свободными от гендерной маркированности характеристиками? Ряд актов может трактоваться как общечеловеческий, за счёт чего обращение в результате произведённого действия может направиться именно к человеку вне его априорных характеристик (фемининное / маскулинное), со свершённым действием не связанных. Но, если постараться такие действия сознательно воспроизвести, то не остаётся сомнений, что универсальные действия те, которые являются мужскими, а значит априорной атрибуции действия всё ещё невозможно избежать.
На основании сказанного можно сделать вывод о давлении субъектной картины определения реальности, что определяет и ограждает понимание возможно не обнаруженной природы маскулинности, являющейся свойством вне антропологического типажа в культурном срезе.
Проблемой де-субъектификации основательно занялся Фуко, введя термин «смерть субъекта» в оборот, начиная с работы «Слова и вещи: Археология гуманитарных наук» (Фуко, 1994).
Смерть субъекта манифестирует уничтожение статичности точки собирания свойств, перемещая на первый план агентность больших структур, например таких, как эпистема у Фуко, или же текст и нарратив в Барта в известной доведённой до предела установке «смерть автора» (одноименная работа, 1968). Турен ёмко резюмировал подход к субъекту в постмодерне, отмечая его бытие через расщепление в противовес тестированию и оформлению в модерне (Фомина, 2002). Субъект константный сменяется «говорящим субъектом» и «субъектом в процессе» (Кристева, 1998, https://web.archive.org/web/20080510105102/http://ru.philosophy.kiev.ua/library/misc/intent/08kristeva.html), характеризуя субъект децентрацией, и упомянутые направления суммируют де-субъектификацию как оптику стирания концентрирующей проблематики, вместо этого очерчивая путь значения перформатива и оптики не приходящего к сжатой характеристике процесса (Батлер, 2018).
Вдали от гендерной проблематики де-субъектификация затронута в ингуманистических взглядах иранского философа Резы Негарестани. В статье «Ингуманистическое (кратко)» в переводе Игоря Ставровского, Негарестани отмечает ложность и псевдопроблемность дискуссий в гуманистической парадигме, сжатой одним и тем же набором посылок, куда вносится как антигуманизм, так и эссенциалистский гуманизм (Негарестани, 2018, https://spacemorgue.com/the-inhuman-a-quick-read/). В качестве альтернативы Негарестани предъявляет ингуманизм, который определяет человека «с точки зрения его способности входить в пространство разумов (теоретических и практических знаний), посредством которого человек может определять и пересматривать, чем ему следует быть, конструируя и пересматривая сами основания или нормы» (Негарестани, 2018, https://spacemorgue.com/the-inhuman-a-quick-read). На основании отмеченного можно сделать вывод, что ингуманизм понимает человека конструктивистски, отмечая человека маркером децентрированных свойств. Такое воззрение позволяет видеть срезы культурных свойств (например, маскулинность) как массивные блоки функциональности, действующие за счёт упущенной с конкретной субъектной рамкой связью.
В данной работе будет предпринята попытка обозреть маскулинность как де-субъектифицированный феномен, сохраняющий своё социальное влияние ввиду распределённости режимов проживания и обнаружения.
II. Маскулинность как социальный маркер сферы
Итак, гендер. Гендерная конструкция может пониматься как практика фундаментального обозначивания себя, и в данной социальной реальности – это практика постоянного действенного воспроизводства фундамента. Буквально здесь под фундаментом вписывания в мир подразумевается пол, конвенционально один из двух биологических – мужского или женского. То есть гендер можно считать за практическое измерение постоянного реобновления связи с фундаментальным наличием себя как индивида / субъекта в мире, за счёт которого (этого реобновления) постоянная обоснованность и целостность воспроизводится на всех этапах реакций и существования.
В этой схеме под фундаментом классически подразумевается пол и половые различия. Почему это так, вопрос без малейшей иронии практически метафизический, но можно сделать предположение о характеристике основных компонентов фундаментального: проще говоря, что должно входить в состав основополагающего основания.
Предположительно несколько единиц: 1) наличие неких свойств; 2) критерий отдельности или демаркационная линия отличности от других, что напрямую вытекает из пункта один; 3) категория обоснованности принадлежности, наличие объединяющих признаков.
Гендер, в свою очередь, являет собой некую практику постоянного обозначения связи с фундаментальностью, гендер – это действия и практика, структурирующие соответствие текущей жизни (актуальной, реальной) по отношению к некому прообразу исходной модели жизни, строящей свои основания на базовых категориях обращения с материалом мира.
Однако текущие движения и ресборки правил и интенсивности объединений, буквально повышенная диверсификация строений реальности приводит к реформированию наполнения «фундамента» − это более не пол, создающий свои социальные следствия и регулирующий социальную жизнь, фундамент скорее теперь представлен неким «актом очертания», т.е. самой целью создания обоснованности своего существования. Во многом социальные сети и их визуальная суммарность как раз способствуют такому перенаполнению.
Это отличная от теории перформатива единица, так как она принципиально стремится к фиксации и отнюдь не ситуативна, хотя и собирает себя из разных зон, актуальность данному моменту которых и наделяют их статусом и ролью «ближайшего фундамента». Также текущий фундамент можно опробовать определить более социологически. А именно как сферы деятельности. Буквально они первостепеннее по отношению в видам гендерности, встроенным в них. Та же множественность маскулинностей и фемининностей тому яркое подтверждение.
Закономерно на данном этапе прочтения статьи задаться вопросом, а как с этим работает гендер и не является ли он всё еще укоренённым в половом аспекте бытия?
Разумеется, гендерность, как следствие половых аспектов (пол – фундамент, гендер – практики воссоединения с ним), всё ещё присутствует, и условно ассоциативно женские и мужские профессии есть как феномен восприятия. Однако гендер уже не практика подтверждения пола, где пол – первостепенная единица. Скорее гендер – это единица или якорь удержания себя в конкретной сфере существования. Изъясняясь буквальнее, определённый вид фемининности позволяет интегрироваться девушке в среду музыкантов, если она, к примеру, скрипачка, и этот же вид фемининности будет не релевантен для стилистки по пирсингу и дредам.
III. Маскулинность как максимальная проявленность и иллюзия сверх обладания (субъектностью)
То есть можно говорить о приобретением силы гендером в противовес полу, в силу изменения фундамента сборки реальности, который ныне заключается в принадлежности сферам определениям себя, и гендер скорее вносит элемент своей остаточной половой фундаментальности, якорит в выбранной сфере (пример округлён на данном этапе намеренно до цисгендерной модели, но этот же механизм работает для небинарных и транс персон, о чём я скажу далее при более подробном разговоре о маскулинности). Итак, далее постараюсь продолжить и углубить разбор самих абстракций фемининности и маскулинности, для выработки полноценного понимания срезов этих явлений (целью данной работы не является фокусирование именно на гендерной истории и вариативности частного гендерного сценария, оттого в риторике текста до сих пор прослеживается бинаризм, однако автором линия социального конструктивизма и гендерной флюидности признаётся).
Возникает закономерный вопрос: как же и чем же отличны друг от друга фемининность и маскулинность сейчас, с учётом потери центрирующей роли пола и вообще-то самым вариативным представлением, вариантами маскулинности и фемининности?
Уместно предположить, что сама история фемининной идентичности обладает заведомой сжатостью – фемининность не обладает отчуждённостью от данности вынужденного характера. Буквально фемининность изначально была более унифицированной по причине ограниченности сценариев жизни в обществе, и также она существует как знак отличности от маскулинного даже посредством большей своей ограниченности в проявлении. Маскулинность исконно шире в принятии, ну или более широкие пласты маскулинного принимаемы, учитывая патриархальный гендерный уклад и априорную нормализацию, эквивалентную мужчине. Именно поэтому мужчина (белый гетеросексуальный цисгендерный) – базовый человек, а не женщина, ребёнок или пожилой человек.
Значит, маскулинное – это нечто нормированнное, и в этом ракурсе и формировалось представление о маскулинности – маскулинность уже базовая и нормированная точка отсчёта, и оттого своё наполнение маскулинность находила через впитывание в себя свойств сфер деятельности, будто бы становясь их антропологическим эквивалентом. Напомню, что в противовес этой базовой нормативности в широком спектре вариаций (хотя и также ограниченном рамками нефемининного) фемининность уже противопоставлена маскулинному, как дополнительное, недостаточное и догоняющее. Фемининность будто бы в процессе doinggender ищет достаточности и приобретения этой нормированности. Главным образом я говорю о представлениях до середины 20-го века.
IV. Романтизация мужской сломленности (ботаник, герой песни «взрослые травмы») как предмет видения маскулинности как стержня нормализации
В качестве примера я хочу привести линейку мужских и женских образов в массовой и также медиакультуре. Разумеется, существуют разные персонажи с разными окрасами, и вместе с тем продолжительный временной период в литературе и кинематографе наблюдалась проблема репрезентативности и явная доминация белого гетеросексуального цисгендерного мужчины, тогда как женщинам, небелым мужчинам, небинарным и трансгендерным людям отводилась вспомогательная или просто недостаточно автономная роль.
Также известный факт, что только мужчинам в кино, предположим, позволительно быть визуально и эстетически разными: это хорошо проиллюстрировано на уровне мультфильмов, в которых женские персонажи ожидаемо юные красавицы с огромными глазами, тогда как отрицательные женские персонажи вправе обладать своим лицом, возрастом, и в целом узнаваемыми чертами, та же Круелла хорошее тому подтверждение. Однако всё это уже сказано, и меня заинтересовала другая зона репрезентативной маскулинности, практически теневая.
Существует видение, гласящее, что гегемоническая маскулинность (Connell, 2005) подчиняет все иные типы и виды маскулинности, и мужчины также испытывают серьёзное давление на собственную состоятельность в силу свисающей необходимости соответствовать маскулинному идеалу. Я с этим соглашаюсь, однако даже этот пример теневой стороны «принадлежности к властной группе» иллюстрирует ранее приведённый тезис, гласящий, что маскулинность априори нормирована. И ловко показать это на примере романтизации.
К примеру, неидеальные персонажи-неудачники, ботаники или откровенно среднячки не новость для кинематографа и его сюжетов, а ковровые дорожки видели далеко ни одного молодого человека, который был бы обладателем среднестатистического худощавого тела, но, тем не менее был бы предметом романтического интереса людей вокруг. Романтизация несоответствия присуща мужским персонажам, она обрамлена флёром рефлексии и как раз максимальной самостью такого персонажа за счёт силы его личного участия в своей жизни, буквально субъектного обладания, в противовес объективизированного представления идеальных героев. К слову, о медиакультуре и примерах из неё – популярный ныне мем по шаблону «Да, я слышал про диалоги Платона. Считаю неэтичным читать чужую переписку» как раз критерий и знак изменившегося сейчас приоритета гегемонической маскулинности (Connell, 2005): в противовес набирающего силу значения романтизации обыденного, эталонность (маскулинная в частности) всё больше вызывает эффект комический (Seidler, 2007).
Я полагаю, всё это свидетельствует в пользу замеченного ранее: маскулинность априори нормирована, это способ быть в некой предметной зоне, а если брать шире, то это способ просто максимально и базово быть, и в этом случае для достижения подтверждения оправданности своего присутствия в информационном поле и потоке не нужно соответствовать эталону (хотя он и остаётся неким ориентиром, идеалом) – это базовое утверждение себя уже априори есть, и один из возможных путей маскулинности – как раз субъектная персонализация.
Усреднённо общественное мнение утверждает, что мужчине необязательно быть красивым – важнее и центральнее харизма. Если перефразировать, то под этой загадочной личиной скрывается юмор, взгляды, мимика, недостатки, страхи – в общем, сам человек.
И тем сильнее проявлена его самость, уникальность, чем мощнее его рефлексия о несоответствии всем идеалам мира и его окрестностей. Мы приходим к роли гегемонической маскулинности (Connell, 2005), идеала, чтобы быть нарушенным для актуализации своего подхода в противопоставлении. На ум приходят образы циников, а также в особенности комиков-мужчин (хотя сюда можно вместить и актёров и т.д.), построивших публичный образ и карьеру на так называемой «харизме». Они обладают привлекательностью на всех уровнях оценки вопреки несоответствию идеалу при достаточно сильной осознанности обладания субъектностью (Vanke, 2018). Один из многих насущных иллюстративных примеров этого сейчас – Бенедикт Камбербетч.
Всё приведённое выше может говорить и свидетельствовать о том, что явление маскулинности шире канонов соответствия, и являет собой скорее базовую концепцию человека, и модели успешной маскулинности тому подтверждение.
Разумеется, ситуация и среди женщин сейчас меняется в сторону инклюзивности: разные публичные образы актрис, комикесс, практика социальной иронии в социальных сетях Твиттер и Тик-Ток, авторами которых являются девушки и женщины, активно иронизирующие о социальном, дискриминации, стереотипах и сексизме, отрекающиеся от любой предписанной предопределяющей реакции на своё положение извне, в которую будто бы ранее женщины подлинно не было допущены. Не говорю про многочисленные примеры разных женщин и девушек в жизни, однако не первостепенно упоминание об этом в силу приоритета разбора внешнего постулирования в данной работе.
Однако при разборе истоков положения дел, даже на уровне речевых привычек, женщину скорее назовут «обаятельной», чем «харизматичной», где первое – апелляция к внешним данным и конвенциональной женской магии обворожительности.
V. Широта явления маскулинного
То есть маскулинность заведомо обладает нормированностью и некоторой сформированностью, тогда как фемининность не способна похвастаться такой автономностью (речь идёт именно о срезах явлений, намного более о них, нежели о мужчинах и женщинах непосредственно) и само онтологическое её положение принципиально отлично от фемининности, что, на мой взгляд, имеет свои социальные следствия.
Исходя из принятой пресуппозиции, нетрудно прийти к предположению, что маскулинность представляет собой явление более широкое, и оттого маскулинная идентичность как продукт зоны маскулинности может быть намного менее гендерным, чем кажется на первый взгляд. Не исключаю вариативностей представлений и степени рефлексии, но всё-таки озвучу предположение, что маскулинная идентичность, за счёт своей нормированности и статуса базового, является маркером универсального существования, и субъект артикулирует эту идентичность или даже взращивает её как инструмент социального расположения (Vanke, 2018). Маскулинность – социальный маркер интеграции в сферу деятельности. Множественность маскулинностей может объясняться этим. В качестве примера можно рассмотреть отслеживание динамики изменения приоритетных моделей маскулинности посредством выявления некоторых черт моделей маскулинности у представителей старшего поколения.
На удивление, основным критерием уважения мужчин к иным мужчинам является разделение ценностных характеристик общечеловеческого характера и принадлежность к профессиональным сферам деятельности.
Это навело на мысль, что маскулинность в общем и целом – маркер принадлежности к социальной сфере, и гендерность маскулинного напрямую продиктована таким средовым, пространственным восприятием. То есть маскулинность – явление более широкое и все проникающее, оттого шире гендера, и в этом значении маскулинность есть во всяком человеке не просто исходя из взгляда о свойственной людям андрогинности и флюидности гендера, но исходя из того, что маскулинность играет не вполне гендерную роль – маскулинность шире гендера, хотя и его захватывает тоже. Маскулинность как наличие частного субъекта в некой сформированной до него сфере.
Что касается артикулированной маскулинности, которая становится идентичностью и частно опирающейся на гегемонную маскулинность (Connell, 2005), то в рамках намеченной оптики её можно воспринимать как осознание фундаментальной возможности быть в неких сферах деятельности (возвращаясь к нормированности маскулинности в роли точки отсчёта), где осознание закрепляет себя через противопоставление по отношению к тем, кто такой возможности в силу исключённости из «нормированности» лишён (женщины, фемининность как самый прямой и очевидный пример, тогда как если говорить о гомосексуальных или небелых, не цисгендерных мужчинах, работает та же схема, однако интересным кажется, что более исконная маскулинность как раз менее гегемонична при меньшей артикулированности, тогда она тяготеет к более андрогинным чертам, и интенсивность именно маскулинного перфоманса «самец, большой дуб» не заслоняет маскулинность как явление.) Причём как более универсальное явление вседостижительности и всеприсутствия, просто с антропологическим компонентом.
В этом смысле хочется сделать вывод о широком пласте явления маскулинности, трансформирующего представление о способах существования этой идентичности, даже разрушающего саму веру в её наличие как определённой сжатой формы жизни.
В контексте изложенного нельзя обойти стороной дебаты doinggenderи undoinggender для спецификации рассматриваемой проблематики через оптику заявленной перформативности. Комплекс воззрений, сопутствующий видению doinggender, безусловно, ближе к представляемым в работе положениям, однако при принятии маскулинности как унифицирующей единицы в отдельности от маскулинности в роли образной спецификации можно заключить, что маскулинность первого типа в состав doinggender скорее включает doingaction в значении определяемости своего наличия через специфику некой сферы деятельности как заведомо не приоритетно антропологизированной зоной, из чего далее структурируется заведомо более автономная для индивида стратегия doinggender. Справедивости ради, такой путь позволяет сохранять индивиду специфичное расстояние возможностей между уже свершаемым типом перформатива и его источником – исходной сферой интересов, чему способствует существующая тенденция перекодирования первичной гендерно конвенциональной аффилиации сфер деятельности, реализуемая через появление новых стилистических платформ самообозначения, за счёт виртуальности разрывающие эссенциалистские коннотации разных поведенческих моделей. Пример: так называемый alttik-tok (это контентный срез материалов и авторов социальной сети Tik-Tok, освещающий проблематику гендерного неравенства, социальной справедливости, жизнь ЛГБТ-сообщества, психические расстройства, любые утрированно частные обозначения, причём в виде естественного проживания, к примеру, посредством юмора, не представленные в официальной «повестке» форменной функции этой и иных социальных сетей), в котором создательницами материалов активно эксплуатируется феминность, сексуализация, но в роли возращённого права обладания без обязательной трактовки определяющего значения. Перформатив становится жестом, оттого приобретает вариативность в сочленении с потерей угрозы уничтожения идентичности в силу её перемещённости. Буквально за пару месяцев (осень 2020 г.) активная нормализация мужского маникюра вне предрешённо феминных / нецисгендерных и негетеронормативных коннотаций набрала обороты и утвердила вариативность в символизации свершённого уничтожения фиксированного расположения идентичности через бинарный перформатив.
VI. Отсутствие субъекта в свете наличия гендера
Но всё же неразумно говорить об отсутствии маскулинности и маскулинной идентичности как специфичной формы артикуляции действительности. Принимая эту мысль в совмещении с выбранной перспективой аналитики, можно сделать допущение, что маскулинность можно считать максимальной артикулированностью формы жизни субъекта (Levant, 2003), однако эта чрезмерность такой функциональной идентичности, опирающейся на внешнее соотношение с миром, довольно шаблонна, оттого не синонимично пластичности и индивидуальности, а, напротив, приводит к формированию маскулинных идеологий (Levant, 2003).
И такая чрезмерная субъектность в роли функции будто бы оставляет нас один на один с самим актом и перформативом постулирования субъекта в себе, в том числе через doinggender, и это постулирование неизбежно находит ограниченные формы, так как сама операция постулирования становится несколько приоритетнее самого проживания, и эти ограниченные формы постулирования субъекта в мире (как для мира, так и для себя самого) находят пристанище / выражение в гендерности / в гендере.
Значит, маскулинность можно также дополнить следующим пониманием: это перформатив максимального обладания субъектностью. Точнее говоря, роль явления маскулинности опять также более центрирующая по отношению к фундаментальному вопросу максимальности существования – буквально, чем больше ты проявляешь себя, тем более вероятно, что ты в принципе есть. Однако очевидны идеологические следствия приоритета самого постулирования (Levant, 2003) – общее стремление представления, визуализированности внешних действий создаёт унификацию и некие общие способы этого постулирования, что в конечном итоге формирует гендерный перфоманс, а также до сравнительно недавнего времени визуально и «общественно» легитимный всего один эталон той же маскулинности – гегемонической (Connell, 2005). Некий шаблон позволяет точнее определять, насколько ты сам субъектен, и конвенционально закреплённые практики позволяют также проще другим увидеть и отметить эту субъектность в нас самих, что в пределах подобной парадигмы задача крайне приоритетная и даже первостепенная.
Значит, сама приоритетность крайней визуализации наличия субъектности (причем в достаточно категориальном значении) создаёт гендер и гендерный перфоманс – это некие мерки представления и внешнего подтверждения свойств.
И на этом этапе открывается любопытная гипотеза: получается, нет субъекта при наличии гендера?
В целом на данный момент мы явно во времени наблюдаем, как гендерная фиксированность сокращается, и на уровне восприятия маскулинного и фемининного, и на уровне проявленных и подтверждённых гендерных перформативов: короткие волосы для женщины, как и длинные у мужчины, сейчас явно не определяют гендерность, в отличие от примеров прошлого, хотя такие свойства всё ещё для некоторых могут и являться особым критерием дополнительных свойств и черт характера носителя, однако и это всё в конечном счёте сводится к дескриптивным характеристикам размывания бинарности, где конститутивного значения у коротких волос девушек и длинных у парней нет.
Более того, поведенческие критерии, одежда – всё смывает с себя гендерную маркированность. То есть динамика небинарности неоспорима, и особо ярко она заметна в сочетании с волной другой, не менее видимой тенденцией – индивидуализацией частной жизни, возрастании инклюзии как на уровне практик повседневной жизни, так и в масштабе общего повышения уровня жизненной мобильности, расширения вариативных сеток сценариев жизни и влияния на них. В мире без чёткой и строго выявленной рамки очертания «канона свершения жизни» роль гендера как унифицированного пространства снижается, в силу возникновения потребности конструирования существования практически сызнова, учитывая более размытые ориентиры жизни, которые не представляют из себя более-менее даже иллюзорно гарантированных схем.
Значит, повышается роль субъекта как автономной единицы, как практики вариативных осознаний в противовес гендерного сценария и гендера вообще как суммирующей идентичности. Интересно, что базовый статус оценки маскулинного также подтверждается наблюдением отсутствия чёткой артикулированности маскулинности, что свидетельствует как о проблемах неравнозначности «центральных гендеров», так и о текущем статусе маскулинного, как явления, а не отдельной субъектной практики, о чём достаточно было сказано в разделах ранее.
Приведённая дихотомия субъект-гендер не включает в себя всё-таки поведенческие практики, которые на данном этапе о гендере вполне ясно заявляют, но к нему несводимы и основными в конструировании идентичности могут не быть.
VII. Заключение
Итого, гендер как унифицирующая единица, некогда вбиравшая в себя постулирование субъекта, отмирает, тогда как субъектность как точка сборки своих проявлений через отрешение идентичности, напротив, набирает силу и обретается. Формы этого явления в рамках гендерного дискурса могут быть обозначены, как агендерность, где последняя – суть манифест не смешивания некой внешней поведенческой позиции и практики с внутренним постулирующим ощущением себя, которое на уровне мыслей теоретического характера, к примеру, часто лишены гендера (Seidler, 2007). Сама разделённость внешнего и внутреннего, а также осознанность в зонах определения себя с учётом усиления видения этого разграничения, соответствует общему тренду нормализации принятия жизни как объекта сплошь и рядом небинарного. Самое важное, что в таком варианте предложения по увеличению уровня равенства и эмансипации людей от оков и некоторых предрешённостей, нередко выстроенных гендером, сам гендер не уничтожается насовсем – такой проект я хотя и нахожу привлекательным, но чрезмерно утопичным, в особенности опираясь на социальные режимы реальности, во многом состоящие из визуальных обозначений и даже унифицирований.
На мой взгляд, перспективнее переосмыслить само положение гендера, а говоря точнее, его расположение − что именно и в каких смыслах он конституирует. И понятие маскулинности мне кажется опорным при работе в этом направлении. Понимание всего феномена маскулинности помогает выявить ясную схему истока появления артикулированной гендерности и создать новую обобщённую, объединённую группу (учитывая, что маскулинность ещё более рознится с некоторыми «объективными чертами», чем при понимании ранее, но также и вовсе выявляется как общий инструмент) на основании наблюдения за влиянием всего пласта явления маскулинности на людей, в результате которого разделённость первопричин выбора гендерного перфоманса становится более размытой, а это, в свою очередь, открывает путь к частному субъектному конструированию.
1. Connell, Raewyn. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. Gender&Society. 19. 829-859.
2. Seidler, Vic. (2007). Masculinities, Bodies, and Emotional Life. MenandMasculinities - MEN MASC. 10. 9-21.
3. Vanke, Alexandrina. (2018). Masculine bodies, sexualities and subjectivities. Logos[RussianFederation]. 28. 85-108.
4. Levant, Ronald & Richmond, Katherine & Majors, Richard &Inclan, Jaime &Rosselló, Jeannette &Heesacker, Martin & Rowan, George & Sellers, Alfred. (2003). A Multicultural Investigation of Masculinity Ideology and Alexithymia. Psychology of Men & Masculinity. 4. 91-99.
5. Dzhudit Batler Zametki k performativnoy teorii sobraniya. − Moskva: Ad Marginem Press, 2018. − 248 s.
6. Fuko M. Slova i veschi. Arheologiya gumanitarnyh nauk / [Vstup. st. N.S.Avtonomovoy]; per. s fr. V.P.Vizgina. - Sankt-Peterburg: AOZT «Talisman», 1994.
7. Fomina, V.N. Alen Turen. «Vozvraschenie cheloveka deystvuyuschego. Ocherk sociologii» M.: Nauchnyy mir, 1998. Sociologicheskoe obozrenie. - 2002. − № 2 [3]. - S. 54−56.
8. Kristeva Yu. (1998). Znameniya na puti k sub'ektu. Filosofskaya mysl' Francii XX veka. − Tomsk: Vodoley. − S. 289−296. URL: https://web.archive.org/web/20080510105102/http://ru.philosophy.kiev.ua/library/misc/intent/08kristeva.html
9. Negarestani R. Ingumanisticheskoe. 2018. URL: https://spacemorgue.com/the-inhuman-a-quick-read/