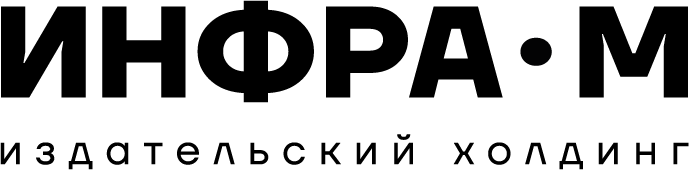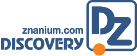This article tells about the central image for the entire lyrics of V. Narbut - the image of the body/flesh, as well as the main derived bodily dominants. Their semantics is revealed in the syntagmatic and paradigmatic aspect of the study of the poet's poetry. In addition, the presented work reveals a typology of bodily images in line with the acmeistic concept of artistic world modeling.
somatosphere, body code, body image, acmeism, body markers
В творчестве В. Нарбута соматосфера представлена несколькими образопорождающими константами – «тело / плоть», «голова», «туловище», «конечности», «внутренние органы», «скелет / череп», «половые органы», которые продуцируют целую систему телесных маркеров, лежащую в основе восприятия мира как сверхчувственного пространства.
Существенную роль в синтагматике и парадигматике художественной системы поэта играет образ тела / плоти, развертывание которого характеризуется пластичностью и метаморфичностью. В лирике В. Нарбута лексемы «тело» и «плоть» употреблены 10 и 14 раз соответственно, однако критерием их функциональной значимости является не только повторяемость, но и способность к семантическому воспроизведению дериватов.
Человеческое тело неоднородно как в аксиологическом, так и в смысловом аспектах. В творчестве В. Нарбута на разных этапах его развития значения образа плоти и вычленяемых телесных частей варьируются и могут быть истолкованы по-разному.
Так, в стихотворении «Гадалка» («Аллилуйя») телесная обнаженность становится признаком, акцентирующим принадлежность человека земной стихии: «с землей роднится тела нагота, / а жилы – верный кровяной вожатый» (113). Нагота символизирует пребывание в изначальной невинности, освобождение от пороков, единение с природой, обретение заново райского состояния. Стихотворение написано в форме монолога ролевого персонажа (девушки, пришедшей к гадалке), представляющего собой развернутое портретное описание «слезливой старухи-гадалки». Мотивы «злого ведовства», покорности ему и приятие также связаны с «земляной» силой. А сама гадалка прямо и аллюзивно уподобляется степной Руси:
Вся закоптелая, несметный груз
Годов несущая в спине сутулой, –
Она напомнила степную Русь
(ковыль да таборы), когда взглянула.
Отождествление тела и земли, с одной стороны, продиктовано общей акмеистской установкой на возвращение лирике земной основы, с другой, – облик «закоптелой», «сутулой» гадалки ассоциируется с образом России из цикла А. Блока «На поле Куликовом» [Три века русской поэзии. Антология. Т.2. 2003: 14]:
Сквозь кровь и пыль…
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль,
а реминисцентный мотив ведовства отсылает к стихотворению поэта-символиста «Русь» (85): «Где ведуны с ворожеями / Чаруют злаки на полях». В финале «Гадалки» В. Нарбут обращается к аграрной метафоре, построенной на соотнесении плоти героини и «пашни», в которой «вызревают зерна», тем самым подчеркивая параллель с текстом-источником и усиливая аналогию тела с землей.
В стихотворении «Бродяга» («Любовь») гипертрофированная телесность, напротив, противопоставлена «наготе», которая в контексте произведения означает победу над плотью, осознанный выбор аскезы. Именно поэтому в стихотворении доминирует церковная лексика («рубище», «бурса», «просфора»), а текст изобилует библейскими и евангельскими аллюзиями: «И кану в Кану, кану в Галилею – / Непреткновенный, шумный и нагой» (166). Языковой каламбур указывает на Кану Галилейскую, которая несколько раз упоминается в Евангелии от Иоанна, – место, где Иисус совершил первое чудо – превратил воду в вино.
Большое тело жалуется на ночь:
Облобызай, облобызай меня,
Кровь преврати в вино – и в теплом чане
Подай к вечере, ушками звеня. (166)
Сюжетообразующую роль в стихотворении играет мотив странничества: лирический герой одновременно сравнивает себя с бродягой («Я на него похож: бурсак, бродяга…»), со «странствующим философом» Г. Сковородой («Ты разглагольствовала, нищета, / Со стоиком, учеником Сенеки, Сковородою ты была взята / Из бурсы…»), наконец, опосредовано, аллюзивно с Иисусом Христом. Торжеству желаний «большого тела» противостоит «бесплотная» свобода и мудрость бродяги – двойника лирического субъекта, «веселого, что вырос на пороге / Лазоревой, студенческой земли!» [Сковорода 1973: 166]. Обретение земли обетованной, отождествляемой, в том числе и с юностью, осмысливается поэтом в парадоксальном ключе: скитание по бесконечной дороге жизни, по сути, и представляет собой утраченный Эдем.
Греховная природа плоти акцентирована в стихотворении «Людская повесть» («Плоть»): «Нет плоти – нет греха, / нет молний мертвецких ночью…» (161). Афористическое оформление высказывания, семантическая замкнутость которого создает эффект парадокса – движения мысли по кругу, иллюстрирует конечность человеческого существования посредством введения мортального мотива. В финальных строках противоречие между духом и плотью перестает быть неразрешимым: душа утрачивает бессмертие и трансформируется в образ пса: «Душа! / Как пес, околей! / Под тыном валяйся, падаль!» (161). Подобное зооморфное олицетворение встречается и в стихотворении «Пасхальная жертва» этого же сборника: «и будет выть и рыскать сукой гончей / душа моя…» (145). Эксплицитная метаморфоза души лирического субъекта в собаку, за которой стоит родство этого животного с Волосом-Велесом, сопряжена с мотивами смерти и возрождения: они восходят к стихогенной сущности Волоса-Велеса как водителя душ в загробном царстве. Вместе с тем в славянской мифологии собака символизирует бездомную душу, жаждущую тела, живой плоти. Мотив бездомности коррелирует с образом «пустого дупла», который воплощает идею вечного возвращения (ср. у Ф. Ницше: «Все идет, все возвращается; вечно вращается колесо бытия» [Ницше 1900: 110], у И. Анненского: «Вкруг белеющей Психеи / Те же фикусы торчат…» [13], у А. Блока: «И повторится все, как встарь…» [Там же], у Ф. Сологуба: «И повторится вновь все то же, / Такие ж небо и земля» [Там же]), дурной повторяемости, бездушия:
и грудь – пустое дупло,
хоть руку засунь по локоть.
Сегодня, завтра, вчера –
все тот же сумрак в деревьях:
кленовые вечера
в раскидистом, добром чреве. (161)
Поэтика телесности В. Нарбута основана на восприятии объекта, в том числе и абстрактного, как живого существа, обладающего чувственно-конкретной экзистенцией. Вследствие этого в образной системе поэта взаимодействуют два разнонаправленных процесса – соматизация растительного мира («в раскидистом и добром чреве») и вегетация телесного («грудь – пусто дупло»).
Повторяющийся образ плоти, приобретающий статус лейтмотива, проходит через большинство стихотворений поэта и является циклообразующим компонентом, придающим одноименной книге смысловое и содержательное единство. Физиология в лирике В. Нарбута – это адамистский «бунт земного бытия против зова ввысь, как утверждение плоти и отказ от духовности…» [Антология акмеизма 1997: 102]. Эти же мотивы свойственны и авангардистской поэтике. Однако в отличие от авангарда, расчленение образа тела на анатомические детали «может прочитываться не только как попытка разрушить грань между материей и духом, но и пониматься как стремление разрушить грань между личностью и окружающим миром» [Боровская 2014: 26], то в адамистской концепции, напротив, таким способом тело человека связывается с миром, а мир уподобляется телу («Самоубийца»).
В стихотворении «Малярия» и лирической книге «Казненный Серафим» в целом концепты «дух», «душа» подвергаются «отелесниванию». Атемпоральность и антиномичность души (у В. Нарбута она соответствующим образом номинирована – «высь»), которая традиционно противопоставлена земле, в стихотворении деактуализируются: тело и душа уравниваются перед лицом болезни и неминуемой смерти:
Вылихорадило тело,
Вылихорадило высь. (233)
С помощью синтаксического параллелизма и анафорического повтора окказионального глагола, вынесенных в сильную позицию – абсолютный конец текста, автор показывает изоморфизм двух полярных категорий.
Сюжет стихотворения «Самое» («Казненный Серафим») представляет собой развертывание цепочки образных трансформаций, нанизывание многочисленных метаболических конструкций. Концепция единой плоти находит свое выражение в семантике заглавия: определительное местоимение лишено зависимого слова, что позволяет расширить его смысловой потенциал и, соответственно, границы интерпретационных практик. Такое безотносительное, отвлеченное значение лексемы коррелирует с образным рядом произведения, построенным на основе аналогий:
И забормочет плоть, в ночи качая
Верблюжей головой ихтиозавра… (239)
Химерические образы, рожденные в результате метаморфозы превращения одного в другого («жабры раздувая» (о рыбе) – «угорь» – слизняк – «обабок» – просо – «червивый филодендрон» – герань – «персидская с пушком» (кошка)), объединены принципом органического родства.
Итак, образ плоти и его производные формируют представления о теле мира, характеризующемся единством органического, анималистического и антропоидного компонентов. Концепция бесконечного перевоплощения витального и мортального, органического и неорганического, растительного и животного, тварного и божественного, природного и антропоидного, бытового и бытийного, сакрального и профанического иллюстрирует закон всеединства телесной субстанции – основу эстетики акмеизма – и становится структурообразующей в художественном универсуме В. Нарбута.
Телесная сфера в поэзии В. Нарбута тесно связана с образом праматери земли. Идея слияния человека с земной стихией, растворения субъекта в универсуме находит свое воплощение в метаморфической соматике, которая изображается включенной в бесконечный кругооборот живого и неживого. Акмеистическая теория аналогий, образный и субъектный неосинкретизм обуславливают особенности функционирования соматической топики в зрелом творчестве В. Нарбута.
1. Annenskiy I.F. Chto takoe poeziya? // Kritika russkogo simvolizma : V 2t. T.2 / Sost., vstup. stat'ya, preambuly i primech. N. A. Bogomolova. - M.: AST Olimp, 2002. - 448 s.
2. Antologiya akmeizma : Stihi. Manifesty. Stat'i. Zametki. Memuary - M.: Moskovskiy rabochiy, 1997. - 367 s.
3. Skovoroda G. Sochineniya v dvuh tomah. T. 1. - M. : Mysl', 1973. - 1 t. - 509 s.
4. Tri veka russkoy poezii. Antologiya : V 2 tomah. T. 1 : XX v. / Vstup. st. V. Verbickogo. - M. : Literatura. Mir knigi, 2003. - 492 s.
5. Tri veka russkoy poezii. Antologiya : V 2 tomah. T. 2 : XX v. / Vstup. st. V. Verbickogo. - M. : Literatura. Mir knigi, 2003. - 520 s.
6. Blok A.A. Polnoe sobranie sochineniy i pisem v 20 tomah. Tom 5. Poemy i stihotvoreniya. 1917-1921 / Pod red. M. L. Gasparova i dr. - M. : Nauka, 1999. - 529 s.
7. Nicshe F. Tak govoril Zaratustra / Per. D. Borshnovskogo // Sobranie sochineniy. - M., 1900. - S. 110.
8. Narbut V.I. Stihotvoreniya / Vst. st., sost. i prim. N. Byalosinskoy i N. Panchenko. - M. : Sovremennik, 1990. - 445 s.
9. Borovskaya A.A. Telesnyy kod v stihotvorenii A. Kruchenyh «Lyubov' tiflisskogo povara» // Kategoriya telesnosti v strukture literaturno-hudozhestvennogo diskursa : materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii (g. Astrahan' 21-22 aprelya 2014 g.) / Pod red. prof. G. G. Isaeva. - Astrahan': ID «Astrahanskiy universitet», 214. - 128 s.
10. Borovskaya A.A., Spesivceva L.V. Istoriya russkoy literatury konca XIX - pervoy treti XX veka : uchebno-metodicheskoe posobie / A. A. Borovskaya, L. V. Spesivceva. - Astrahan' : ID «Astrahanskiy universitet», 2016. - 152 s.