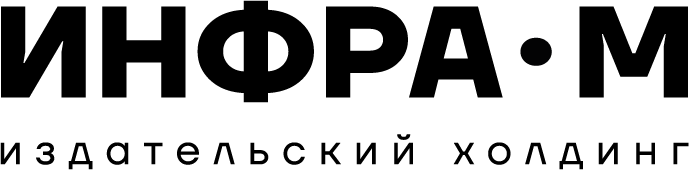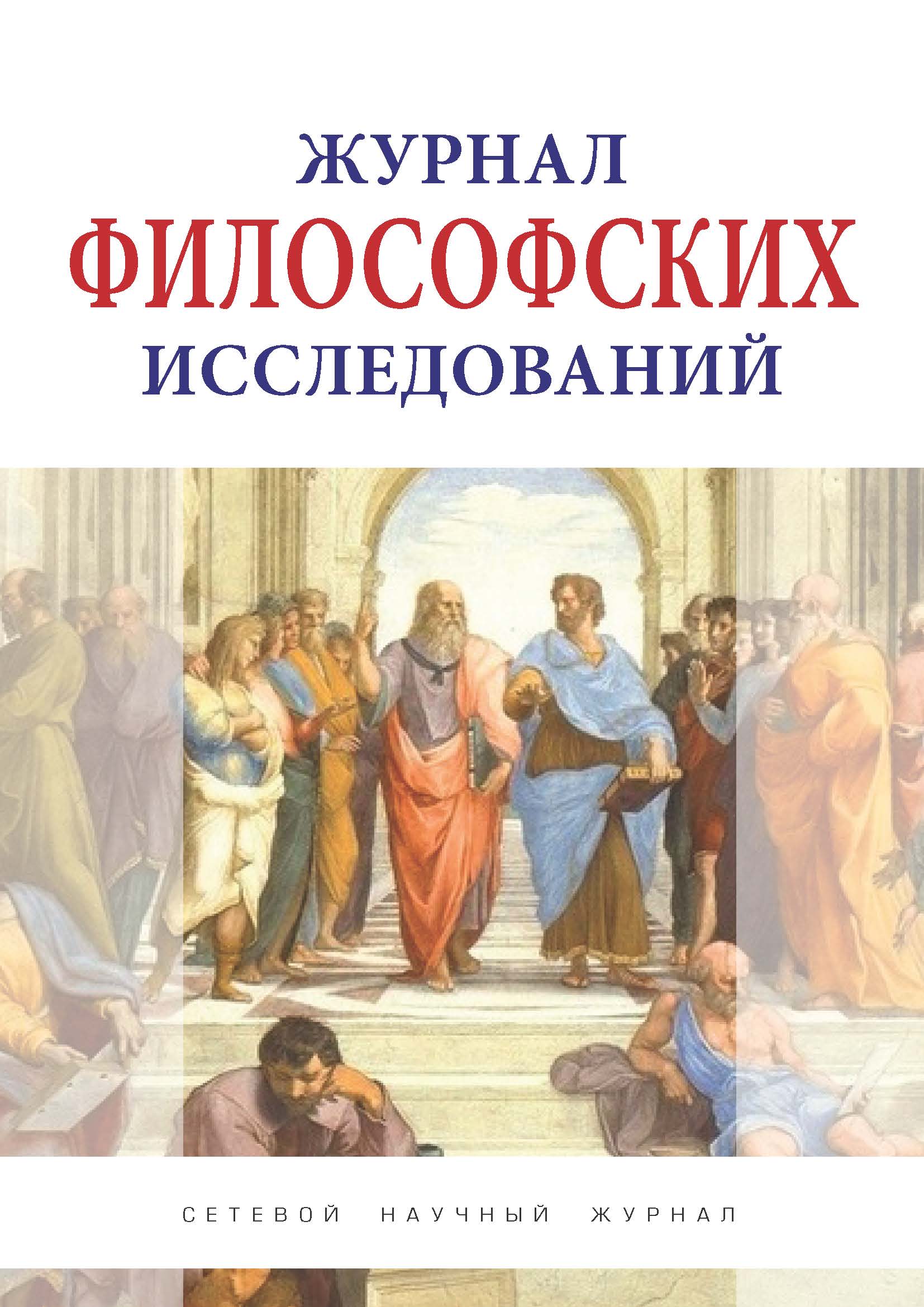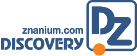Russian Federation
Moskva, Moscow, Russian Federation
To understand the depth of the «Little tragedies», it is necessary to adhere to a holistic anthropological methodology. The authors propose to rethink the genre marking of “Little tragedies”: “Little” can be attributed not only to the size of works, really short ones; it can be understood as insignificant, small, tragic experiences that do not exalt a person in any way. In this case, the hero of the tragedy turns into a little man with great passions.
A.S. Pushkin, «Little tragedies», genre, unconscious, love, happiness, psychics, conscience, personality.
Авторам хотелось бы предложить трактовку знаменитого пушкинского цикла, которая основывается на неких очевидных, можно сказать, бесспорных постулатах, ведущих к глубоким, далеко не очевидным и, бесспорно, в высшей степени дискуссионным выводам.
Во-первых, перед нами пусть маленькие, но трагедии – жанр в литературе традиционный, фундаментальный, ко времени написания Пушкиным своих «Маленьких трагедий» имеющий в своем активе мало сказать совершенные – величайшие, эталонные образцы, созданные разными авторами в разные эпохи. Эсхил, Софокл, Еврипид, Шекспир, Корнель, Расин – этого вполне достаточно, чтобы отнестись к трагедии, к трагическому герою серьезно. Это вневременной жанр, специализирующийся на вечных коллизиях, терзающих человека, – коллизиях, генетически восходящих к страстям человека: к любви, ревности, жадности, зависти, жажде познания, страху. Избрать трагедию как духовно-литературный формат (в основе которого трагический пафос) – значило, так или иначе, вступить в диалог с традицией трактовки человека, с традицией интерпретации гуманизма.
Во-вторых, автор счел необходимым указать: несмотря на то, что это самые настоящие трагедии, они – маленькие. Легко соблазниться на то очевидное обстоятельство, что речь идет о размере произведений – действительно небольших, маленьких, и отвлечься от другого, не менее очевидного обстоятельства: маленькие можно понять и как незначительные, мелкие, никак не возвеличивающие человека трагические переживания. Как своего рода трагическую возню. С названием получилась некоторая двусмысленность, однако ничто не указывает на то, что Пушкин оконфузился; напротив, двусмысленность становится способом актуализации скрытого, полемического смысла: великий жанр предназначен для возвеличивания маленьких людей, ничтожных людей, которых впоследствии другой классик удачно окрестит «мертвыми душами». Великие страсти – удел маленьких людей: таков скрытый культурный посыл маленьких трагедий (в чем, думается, и состоит их истинное величие).
Трагедия как некая духовная хвороба возможна лишь на начальном этапе духовного становления, её можно трактовать как «болезнь роста» на переходном этапе от человека к личности (как выражение своеобразного кризиса переходного возраста). Вот почему трагедия, любая трагедия – неизбежно будет маленькой (в отношении подлинно больших и глубоких проблем личности). «Духовные проблемы личности» и «трагедия как форма их воплощения» – вещи, возможно, и совместные, однако качество «духовной трагедии» в этом случае становится принципиально иным. Те же Онегин и Печорин – лучшие тому подтверждения. Ни Барона, ни Сальери, ни Гуана, ни Председателя (сейчас мы о главных персонажах «Маленьких трагедий») невозможно представить героями романа (героями историй о становлении личности); героями романа они могли бы стать только тогда, когда взялись бы отрицать, «презирать», по словам Онегина, сами себя (что стало бы началом подлинной трагедии, ведущей к отрицанию трагедии как способа духовного существования).
Иными словами, вместо маленьких людей, испытывающих большие страсти, ведущие, опять же, к маленьким трагедиям, им предстояло бы стать личностями, мыслящими людьми. К такого рода персоноцентрической трансформации предрасположен разве что Гуан или Председатель (да и то теоретически, потенциально).
Итак, культурному герою, личности не пристало испытывать трагедию: не философское это дело; трагедия превращает масштабного героя в маленького.
«Маленький человек» – это человек, не способный стать личностью.
Герой великих трагедий – маленький человек с большими страстями. Закономерность такова: чем меньше человек – тем больше страсти. Трагедия строится именно на страстях, а не на умных чувствах просвещенной личности. Великий человек – личность не тот, кто с высшим накалом страстей переживает безысходность трагедии, а тот, кто способен отыскать духовный выход из трагического тупика (см.: [2; 3; 8–15]).
Субъектом трагедии (равно как и героики с сатирой) является человек, индивид, homo economicus (субъект натуры); личность, homo sapiens (субъект культуры) является уже субъектом иных духовных стратегий – персоноцентрического героизма, драматизма, юмора.
Вывод такой: у Пушкина были основания назвать свой цикл «Маленькие трагедии».
Литературоведческим обоснованием этого тезиса мы сейчас и займёмся.
«Скупой рыцарь». Пушкин недаром в конце 20-х годов XIX в. стал разрабатывать «буржуазную» тему «денег», не совсем свойственную русской литературе, привычно тяготеющей к духовным началам. В эту эпоху не только в Европе, но и в России все более и более в систему крепостнического уклада вторгались буржуазные экономические элементы, вырабатывались новые характеры буржуазного типа, воспитывалась жадность к приобретению и накоплению денег. Ростовщики стали заметными фигурами (см.: [4; 5; 6; 7]). «Скупой рыцарь» был в этом смысле вполне современной пьесой. Кто является носителем трагического начала: Барон или сын его Альбер?
Движущим началом пьесы является патологическая страсть Барона к деньгам, богатству, своим сокровищам, которых он становится рабом и благодаря которым чуствует себя царём. «Скупой рыцарь» точное название: оно указывает на отчасти комическое сочетание несочетаемого. Нам представлена даже философия скупости (см. монолог Барона), но от этого страсть не перестала быть страстью. Альбер же только оттеняет эту скупость, придаёт ей некое инфернальное измерение.
Что ни говори, а человек, сводимый к одной «страстной» краске, к «какому-то неведомому чувству», – это мелко. Перед нами маленькая трагедия, не случайно имеющая подзаголовок Сцены из Ченстовой трагикомедии: The covetous knight. «Трагикомедия» в данном случае означает неполноценную трагедию (маленькую). Финальную реплику Герцога «ужасный век, ужасные сердца» можно понять следующим образом: если страсть к деньгам становится самой сильной душевной потребностью, вытесняя все остальные человеческие чувства, если ради денег сын готов убить отца, а отец – сына, следовательно, налицо перекос фундаментальной системы ценностей. Люди измельчали.
Но тут присутствует нюанс: природа человека привязана ко времени, к веку: каково время – таков и человек. Не ужасные сердца приводят к тому, что наступил ужасный век, а ужасный век сделал добрые сердца людей ужасными. В принципе, конечно, зависимость между «веком» и «сердцами» иная: никакой век не может изменить «вековечную» природу человека (пример того же «Евгения Онегина» лучшее тому свидетельство). Смещение ответственности с персоны на эпоху, то есть абсолютизация социальной составляющей духовности приводит к тому, что содержание трагедии становится неглубоким, маленьким, если этому слову придать расширительное, большое значение.
«Моцарт и Сальери». Трагический персонаж в данном случае – благородный, гуманистически озабоченный завистник Сальери: уже одно это резко сужает масштабы трагедии (внося в неё, кстати сказать, краски трагикомедии). Никакая философия зависти, ставшей страстью, не превращает индивид в личность. Перед нами иллюстрация тезиса: самолюбие, превосходящее по размерам талант, рождает зависть, а уступающее по размерам таланту рождает великодушие.
Что послужило причиной разыгравшейся трагедии?
Святая убеждённость трудолюбивой посредственности в том, что «незаслуженно», «просто так» доставшийся талант – это от лукавого. Логика Сальери, как это часто бывает с логикой сумасшедшего, поражает своей дикой изысканностью или, если угодно, диким совершенством:
Что пользы, если Моцарт будет жив? (…)
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше [1].
Что определяет талант – трудолюбие или природная одаренность? – не важно; важно то, что Моцарт обречён жить в среде, враждебно отторгающей талант как дар судьбы. Это отчасти трагические предлагаемые обстоятельства, однако, трагизм как черта мировосприятия чужд натуре «гуляки праздного», который по счастливому стечению обстоятельств является «сыном гармонии». Если бы Моцарт посвятил себя страсти сожалеть о вопиющей несправедливости (злые люди, дескать, не дают развернуться таланту в полной мере, толпа душит гения!), то и Моцарта никакого бы не было. В лучшем случае появился бы еще один унылый Сальери, любящий попенять на досуге небесам, что «нет правды на земле».
Ключевая трагическая фигура здесь – Сальери. И трагедия его – это трагедия маленького человека, павшего жертвой тщеславия и зависти. Оформить злобное эгоистическое желание как предназначение, выдать зависть за избранничество – это классика сатиры.
Чего здесь больше: серьезной глупости Сальери или злой сатиры на эту глупость?
Умному читателю как-то неловко рефлексировать на тему умозаключений глупца. Это можно считать своего рода доказательством ничтожности трагического персонажа.
«Каменный гость». Здесь герой трагедии – дон Гуан. Отчего же, например, не донна Анна? Отчего же невозможно рассматривать донну Анну как трагический персонаж?
Формально донна Анна вполне соответствует роли трагической героини: дона Гуана, погубителя мужа, любить нельзя, но очень хочется...
Трагическая мотивировка поведения донны Анны ничем не уступает патетической страсти Джульетты Капулетти.
В действительности это не трагедия, а потенциально трагическая ситуация. Одно дело потерять любимого человека, и совсем другое – отдавать долг памяти мужа, то есть всего-то навсего вести себя пристойно. Вдова формально скорбит, и оттого «ужасное» внимание Гуана, по сути, не оскорбляет ее, а льстит ей.
Несчастную даму и упрекать как-то неловко: она проявила слабость, которую, при всем уважении к донне Анне, невозможно квалифицировать как преступление; дон Гуан только восхищается ею, возвращая тем самым к жизни, пробуждая в ней женщину.
Иное дело, что «оживил» он донну Анну ценой, как водится, собственной трагедии, смысл которой сводится к тому, что Гуан впервые перестал чувствовать и вести себя как женщина. Оказывается, кроме «воли» и «науки страсти нежной», этих неизменных догматов веры высокоразвитого индивида, на свете есть любовь и счастье, однако дон Гуан до встречи с донной Анной вел себя так, будто «на свете счастья нет». А теперь он, обнаружив в себе зачатки личности, готов воскликнуть «как я ошибся, как наказан!». Высокая болезнь приводит к высокой трагедии: у нас есть основания ставить так вопрос.
Но эта маленькая «большая» трагедия не разработана в своих основных мотивах; перед нами разве что конспект трагедии, её набросок, эскиз – нечто обладающее литературной ценностью, предназначенное для сцены, но парадоксально не сценичное.
«Пир во время чумы». В «Отрывке из Вильсоновой трагедии» трагизм не только как мироощущение, но и отчасти как бунтарская идеология связан с образом Председателя, Вальсингама. Человек, способный на любовь, способный, в отличие от дона Гуана, точно формулировать сложные мысли, возглавляет некое бессмысленное, на первый взгляд, стихийное движение сопротивления, ибо сопротивление порядку вещей, освященному моралью, позволяет хоть как-то сохранить личное достоинство.
Это уже ситуация отнюдь не шекспировская. От подобной маленькой трагедии рукой подать до большой драмы: перед нами сцена, полная трагической иронии (чего стоит одно только название!), весьма современного по психологии ощущения. Точкой отсчета здесь выступает почти личность.
В своем инфернальном «гимне в честь чумы» Вальсингам творит хвалу смерти, – той смерти, что обостряет восприятие жизни, то есть становится частью жизни. «Упоение» и «неизъяснимы наслажденья» результат прямой угрозы гибели. Вальсингам слишком далеко зашел для трагического героя. К тому же он мудро, совсем не героически относится к трагедии. Он обращается к священнику, к «отцу» («Отец мой, ради бога, оставь меня!»), таким отеческим тоном, словно стоит гораздо выше его в духовной иерархии.
Сплошь противоречивые, примирительные формулы приводят к тому, что на пиру во время чумы «Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость». Даже до банальной смерти дело не дошло.
Тип сознания Вальсингама – явно не трагического склада, и потому он смотрится лишним, потусторонним в контексте маленьких трагедий.
Пушкинский опыт трагедий можно воспринимать и таким образом: время трагедий прошло. Рядом с Евгением Онегиным трагический персонаж начинает смотреться если не комично, то в духовном отношении неполноценно. Вот почему разработка условных шекспировских страстей в рамках классической трагедии превратилась бы в духовно-эстетическую ложь. Вызов Шекспира Пушкину состоял не в том, что российский гений обречён был усовершенствовать классическую трагедию, не меняя её качественных характеристик, а в том, что А.С. Пушкину, как и В. Шекспиру в своё время, предстояло изменить духовно-эстетическую точку отсчёта.
Не в том дело, повторим, что из жизни исчезла трагедия (она отнюдь не исчезла: Пушкин ведь осовременил трагедию, сделав её, по сути, личным делом героя); дело в том, что в жизни появилась «новая трагедия», иная точка отсчёта: драма, трагедия личности.
Именно так: драма – это трагедия нового времени. При наличии драмы любая трагедия становится маленькой. Ромео и даже Гамлет уже не могли быть Героями нового времени, ибо героем этого века становилась личность.
Если рассматривать творчество А.С. Пушкина как одно из первых впечатляющих выражений заката (деградации) цивилизации, то следует подчеркнуть, что именно это эпохальное мироощущение в рамках миропонимания позволило А.С. Пушкину создать богатый содержательный пласт «Маленьких трагедий».
1. Tekst «Malen'kih tragediy» citiruetsya po izdaniyu: Pushkin A.S. Sobr. soch.: V 10 t. /Izd-vo «Pravda». - M., 1981. - T.4. (kursiv moy - A.A.).
2. Andreev A.N. Informacionnaya struktura lichnosti kak kategoriya pedagogiki//Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Social'no-gumanitarnye issledovaniya i tehnologii. - 2018. - T. 7. - № 3. - S. 15-19.
3. Andreev A.N., Kaschenko T.L. Gnoseologiya odnoy shutki, ili neshutochnaya gnoseologiya (na materiale romana v stihah A.S. Pushkina «Evgeniy Onegin»)// Zhurnal filologicheskih issledovaniy. - 2018. - T. 3. - № 4. - S. 12-17.
4. Gladkov I.S., Zorina I.Yu. Genezis rossiyskoy promyshlennosti//Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika. - 2008. - № 34. - S. 81-86.
5. Gladkov I.S., Zorina I.Yu. Razvitie rossiyskoy promyshlennosti v XIX - nachale XX vekov//Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika. - 2009. - № 5. - S. 72-76.
6. Gladkov I.S., Piloyan M.G. Graf E.F. Kankrin: vospominanie o buduschem//Mezhdunarodnaya zhizn'. - 2012. - № 13. - S. 148-157.
7. Gladkov I.S., Piloyan M.G. Istoriya mirovoy ekonomiki: Nauchnoe izdanie/2-e izdanie. - M.: IE RAN, Prospekt. 2016. - 384 s.
8. Kaschenko T.L. Komfort kak nacional'naya ideya//Vlast'. - 2013. - № 3. - S. 097-100.
9. Kaschenko T.L. O cennostyah molodezhi s pozicii realizma//V sbornike: Molodezh' v sovremennom obschestve Sbornik materialov Vserossiyskoy zaochnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. Pod red. S.A. Burilkinoy, B.T. Ischanovoy, O.L. Potrikeevoy, E.N. Raschikulinoy, G.A. Suprunenko. - 2015. - S. 123-128.
10. Kaschenko T.L., Polozhenceva I.V., Yulina G.N. Yazyk slavyan - yazyk vzaimoponimaniya i lyubvi// V sbornike: Konsolidiruyuschaya rol' russkogo yazyka kak osnova gosudarstvennosti Rossii Sbornik statey v ramkah provedeniya meropriyatiy, napravlennyh na podderzhku, sohranenie i rasprostranenie russkogo yazyka. Moskva, - 2017. - S. 15-23.
11. Piloyan M.G. Domashnee obrazovanie dvoryanok kak vazhneyshaya sostavlyayuschaya zhenskogo obrazovaniya v Rossii: istoricheskie osobennosti//Zhurnal istoricheskih issledovaniy. -2018. - T. 3. - № 3. - S. 42-48.
12. Piloyan M.G. Zarozhdenie zhenskogo obrazovaniya v Rossiyskoy imperii//Zhurnal pedagogicheskih issledovaniy. - 2018. - T. 3. - № 3. - S. 1-7.
13. Polozhenceva I., Kaschenko T. Fenomen istoricheskoy pamyati i aktualizaciya lichnoy istoricheskoy pamyati studentov//Vlast'. - 2014. - № 12. - S. 42-47.
14. Shatilo I.S., Buharina A.V., Kaschenko T.L. Kul'turologiya. Uchebnoe posobie. Moskva, Paleotip. - 2012. - 136 s.
15. Shatilo I.S., Kaschenko T.L. Gumanitarnaya kul'tura kak fenomen duhovnosti//Nauchnye issledovaniya i razrabotki. Social'no-gumanitarnye issledovaniya i tehnologii. - 2013. - T. 2. - № 3 (4). - S. 10-19.