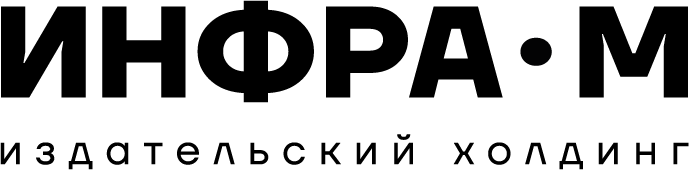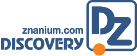Moskva, Moscow, Russian Federation
This article examines the novels of H. Kasack “Die Stadt hinter dem Storm” and E. Zamjatin “We” as the invariants of anti-utopia.
E. Zamjatin, H. Kasack, anti-utopia.
Роман Г. Казака «Город за рекой» был опубликован в 1947 г. и стал одной из вех развития «романа-параболы», хотя вопрос о его жанровом своеобразии остается дискуссионным до сих пор. В литературоведении предпринимались попытки увидеть в нем как роман-антиутопию, так и инвариант «романа воспитания» [1, с. 63–69]. Подобное сопоставление (Е. Замятин и Г. Казак), отмеченное в литературоведении ранее, продиктовано стремлением рассмотреть произведение немецкого автора в контексте жанра антиутопии, отметив конкретные текстуальные совпадения между романами «Мы» и «Город за рекой» и прояснить вопрос о специфике этого жанра на немецкой почве [1, с. 63–69]. Нас будут интересовать, главным образом, типологические параллели и расхождения, при этом мы не исключаем факта знакомства Казака с романом русского писателя.
Несмотря на наличие многочисленных исследований в русском и зарубежном литературоведении, посвященных описанию жанра антиутопии, вопрос о существовании жанровой константы остается до сих пор открытым. Подробный разбор основных подходов и истории вопроса на сегодняшний момент проделан Е.Ю. Козьминой в ее диссертационной работе «Поэтика романа-антиутопии (на материале русской литературы XX-го века)» [2]. Последней принадлежит и идея романа-антиутопии как жанрового гибрида, включающего в себя черты социально-философского романа, утопии, романа любовного, детективного и психологического, что убедительно доказывается на примере романа Е. Замятина «Мы» [2, с. 96]. Помимо размытости существующих жанровых определений, в литературоведении можно отметить тенденцию рассматривать утопию и антиутопию как инварианты одного жанра. Антиутопия в этом случае рассматривается как отрицательный вариант утопии, утопия и антиутопия различаются лишь авторской оценкой изображаемого [3, с. 13].
Рассуждая о романе-антиутопии, мы будем следовать традиции разграничения утопии и антиутопии, ведь, как нам представляется, существенным для понимания феномена романа-антиутопии является именно его «романная» природа. Козьмина Е. Ю. также рассуждает о возможном гибриде жанров, определяя антиутопию как результат «встречи и взаимодействия утопии и романа», причем эти жанры определяются как изначально противостоящие друг другу [3, с. 76]. В результате синтеза рождается антиутопия – «новое образование, деформирующее исходные жанры» [2, с. 76]. Концепция сближения антиутопии и также романа присутствует и в книге Г. Морсона [4, с. 78].
Тем не менее, при существующих разногласиях и множестве подходов нам удалось выделить несколько жанровых констант романа-антиутопии, в процессе анализа избранных нами текстов мы будем обращаться к работам, отмечающим характерные черты романа-антиутопии. Итак, во-первых, исследователи выделяют «злободневность» как специфический признак романа-антиутопии [2, с. 16]. Во-вторых, описание бытия человека в рамках тоталитарного государства, неизбежный конфликт личности и государства [5, с. 60]. Наконец, изображение индустриального мира, его замкнутость, отсутствие в этом мире природы [6, c. 220].
Если «злободневность» романа Е. Замятина не оставляет сомнений, то реальность, описываемая Казаком, несколько сложнее. Согласно сюжету романа Казака, Роберта Линдхофа, специалиста по аккадской литературе, приглашают в город без названия для работы в Архиве. Город с военно-тоталитарным устройством напоминает социум, неоднократно описанный в антиутопиях ХХ в. Он живет по законам военного времени, ограничивающим свободу обитателей, которые не могут без специального разрешения перемещаться из одной части города в другую, знаком оповещения служит сирена. Однако Г. Казак специально уходит от прямых исторических параллелей, хотя можно предположить, что в романе находят отражение реалии послевоенной Германии, город расположен над и частично под землей, в катакомбах, везде развалины как после бомбежек.
Описание бытия в городе также соотносится с основными чертами тоталитарного государства: отсутствием личной свободы, пренебрежением всем личным, что выражается в утрате вновь прибывшими имени и получении номерного знака (как у Замятина), изыманием предметов, связанных с индивидуальной памятью (фотографий, писем и т.д.), существованием разветвленной системы бюрократии, убежденной в том, что «нужно привести жизнь граждан в соответствие со всеобщими линиями судьбы» [7, с. 46]. Обитатели задействованы в коллективных «часах упражнений», большая роль в тексте отводится описанию механических и синхронно совершаемых действий.
Как и во многих антиутопиях, для обитателей города важна идея победы разума над эмоциями, чувствами и чувственностью. Роберт Линдхоф сразу отмечает существенные отличия города за рекой от того мира, в котором ему приходилось жить: прежде всего, здесь нет природы. Однажды герой решает рассказать о природе своего родного края: «Белые облака плыли по небу, бушевали грозы, веяли прохладные ветры, кружились в воздухе птицы, и порхали мотыльки» [7, с. 186]. Однако присутствующие не понимают его и говорят о наступлении «новой эры», восхищение природой для которой не более, чем пережиток, «новая эра» означает победу над эмоциями и чувством.
Эти общие черты, характерные для антиутопии, усилены частностями: описание города Г. Казаком местами напрямую отсылает к описаниям, присутствующим в романе Е. Замятина «Мы». Только что прибывшего в город Роберта Линдхофа потрясает ослепительной голубизны небо «от первородной чистоты этого неба, которое Роберт за время своего пребывания здесь не видел затянутым облаками, исходила какая-то сила ясности, казавшаяся жуткой, ибо ничего общего не имела ни с чем на земле» [7, с. 136]. Герой романа Замятина также отмечает небо «синее, не испорченное не единым облачком» [8, с. 308]. (Облачко на небе появляется в главе, когда героиня I-330 приглашает Д-503 в Древний Дом, а далее в тексте речь идет и о тумане). Очевидно, это и есть «прирученное» небо в противовес тому, что в древние времена бушевало грозами [8, с. 402]. Тема покорения природы присутствует у Замятина и на мифологическом уровне: подобно Иисусу Навину, остановившему солнце, чтобы продлить сражение, сторонники политики Благодетеля «…навеки приковали его цепью к зениту» [8, с. 427].
Наконец, постройки, выполненные из стекла и призванные воплотить идею «общей прозрачности», подобные описанным в романе «Мы», встречаем и у Г. Казака, в одной из глав герой попадает в настоящее «стеклянное царство» – отдел главного управления [7, с. 159].
Общество в антиутопиях, как правило, замкнуто. Показанный Е. Замятиным «новый социум» стремится к всеохватности, но на момент, описанный в романе, он не универсален, за Зеленой Стеной, отделяющей «хаос» от так называемого «космоса», существует другая жизнь, о наличии которой догадывается главный герой. Зеленая Стена, таким образом, является границей, пересечь которую, значит – совершить преступление. В романе Г. Казака с темой границы возникает определенная сложность. Формально граница проходит по реке, но сам момент ее перехода героем не акцентирован в тексте. Оба мира сообщаются, и замкнутости, как у Е. Замятина, нет. В романе Казака многое недосказано и непонятно, вызывает вопросы, так как показано с точки зрения стороннего наблюдателя. Если это «царство мертвых», то, вероятно, это конец пути? Но при этом герой замечает, что, несмотря на конечную станцию, приведшую в город, «рельсы тянулись куда-то дальше» [7, с. 34]. Как уже было сказано, потусторонний мир у Г. Казака частично дублирует мир посюсторонний. Описание Г. Казаком потустороннего мира невозможно соотнести с какой-либо конкретной традицией, и, по замечанию В.Я. Проппа, «народов, имеющих совершенно единообразное представление о потустороннем мире, вообще не существует» [9, с. 287]. Но при этом, «человек переносит в иное царство не только свое социальное устройство…, но и формы жизни и географические особенности своей родины» [9, с. 288]. Именно в соответствие с такими представлениями устроено и инобытие у Казака, хотя оно представлено в гротескной форме. Обитатели, напоминающие заводных кукол, продолжают совершать привычные действия, словно бы не замечая незнакомой обстановки, они имитируют жесты, привычные для них в обычной жизни. Перед глазами главного героя проходит дикая пантомима, призванная аллегорически возвести «усилия и тщетность повседневной жизни в абсолютный образ» [7, с. 71]. «…Они представляли, будто и в самом деле выдвигают ящики комодов или открывают и закрывают дверцы шкафов – тогда как на месте этих воображаемых предметов было ничто, пустота» [7, с. 71]. Но это подобие потустороннего и посюстороннего миров касается лишь эпизодов, связанных с человеческой деятельностью.
Бытие «другого мира» у двух писателей имеет не только исторические, но и мифологические проекции, хотя последнее наиболее акцентировано у Г. Казака. Оба романа злободневны, но благодаря внесению мифологических элементов, оба романа выходят на уровень глубокого философского обобщения. Одной из первых работ, в которых был поднят вопрос о соотнесенности антиутопии с мифом, стало диссертационное исследование О. В. Лазаренко «Русская литературная антиутопия 1900-х – первой половины 1930-х: проблемы жанра» [10]. О сопряженности мифа и антиутопии рассуждает и А. М. Зверев: «Миф, из которого вырастает образ земного рая, в антиутопии испытывается с целью проверить даже не столько его осуществимость, сколько нравственность его оснований» [11, с. 306]. Таким образом, утопия – жанр, апеллирующий максимально к мифологическому сознанию и немыслимый без него, эта «мифологичность» переходит и в антиутопию.
Однако «другой мир» в романе «Город за рекой» – это не достигнутый рай, а обитель умерших, в тексте напрямую говорится о том, что никто, кроме Линдхофа, не отбрасывает здесь тени. Так, в тексте отчасти снимается социально-политическая заострённость. Социум в романе «Мы» показан глазами главного героя и представляет, по его мнению, не что иное, как достигнутый рай. Однако и этот рай отчасти отсылает к мифологеме о царстве мертвых. Д-503 кажется, что «завтра совсем не будет теней, ни от одного человека, ни от одной вещи, солнце – сквозь все» [8, с. 429].
Как соотносится «мир мертвых» и история человечества у Г. Казака? «Мир мертвых» оказывается за пределами времени и пространства. Вернее, на аллегорическом уровне перед нами предстает картина мира во вневременной перспективе. В наземном мире можно обнаружить эклектичное соединение построек разных периодов: «Во фронтоны многих зданий были несимметрично вделаны квадры и обломки колонн, по всей видимости, отдельные части, ранее принадлежавшие каким-то более древним сооружениям» [7, с. 41]. История для Г. Казака циклична и вечно повторяема. Роман Г. Казака соотносится и с жанром «видения»: герою не рассказывают о мире мертвых, но его взору предстают картины, которые он должен интерпретировать сам. Так, в одной из глав архивариусу Линдхофу предстают войска, одетые в костюмы всех времен и народностей. Перед ним проходит «огромная мертвая книга мировой истории, вся красная от крови, пролитой в борьбе и войнах», история человечества сводится к постоянному стремлению последнего к насилию над себе подобными [7, с. 238].
В романе Е. Замятина «Новый мир» представляет собой почти полную победу над старым мироустройством, следы которого, тем не менее, проступают в романе: это и желтая пыльца, летящая из-за Зеленой Стены, и волосатые руки главного героя, и представление о наличии души как болезни. Но все же для Д-503 новый социум – это обретенный рай, логическое завершение человеческой истории, связанное с победой разума над темными инстинктами, «новый социум» – высшая точка развития человечества. Однако же память о «древнем мире» присутствует в сознании главного героя, который постоянно сравнивает «мир новый» и «мир старый», обнаруживая зачатки нового мироустройства в старом, к таковым относится, например, «инстинкт несвободы», присущий и древним, по мнению Д-503[i]. Таким образом, «новый мир» вписан для главного героя в линейную схему развития человечества и соотнесен со своеобразно понятым мифом о рае. Исследование мифологического пласта романа Е. Замятина проводится в диссертации Н. Кольцовой «Мы» Е. Замятина как неомифологический роман [12]. Автор диссертации выделяет, как минимум, несколько важных для повествования мифов, восходящих как к античной, так и к иудео-христианской традициям: библейский миф об изгнании из рая, о Вавилонской башне, об искушении и др. При этом, Замятин является и творцом своей мифологии, в основе которой лежит числовая символика. По замечанию исследовательницы, если для Д-503 обращение к мифу – это ни что иное, как инструмент упрощения, то для автора, напротив, углубления смысла текста [12, с. 8]. Основным травестируемым мифом в романе исследовательница называет миф о грехопадении [12, с. 21]. Исследователи отмечают и роль «фаустовского» мифа в художественном мире Замятина, неслучайно, организация, ставящая целью совершить революцию, получает название «Мефи» [13, с. 149].
В социуме, описываемом Г. Казаком и Е. Замятиным, есть и другая, объединяющая повествования двух авторов, но не отрефлексированная героями черта: это представление о тоталитарных основах религии. Д-503 считает христиан предшественниками, пусть и несовершенными, новой цивилизации. В сцене казни поэта было, по мнению Д-503, «что-то от древних религий, что-то очищающее» [8, с. 339]. В описании главного лица государства у двух авторов также проглядывает библейская метафорика: «это с небес нисходил к нам Он – новый Иегова на аэро» [8, с. 400]. Так и у Казака, Верховный Комиссар «казался сидящей фигурой святого» [8, с. 339]. Примечателен тот факт, что истоки «нового мира» соотносятся главным героем Е. Замятина с образами, восходящими к иудео-христианской религии, в то время как в Древнем Доме, оплоте человечности и свободы, постоянно присутствует фигурка Будды, отсылающая к иной религии, мало известной в европейской цивилизации. Сочетание культовой постройки и военного сооружения встречается в описании города в романе Казака и представлено своеобразным «храмом-казармой» [7, с. 145].
По мнению многих литературоведов, антиутопия по определению содержит пародийное начало и немыслима без ее отношения к утопии. Этот подход присутствует в известной книге Г. Морсона «Границы жанра. Дневник писателя Достоевского и традиции литературной утопии»: антиутопия – это жанр, в котором высмеивается и подвергается критике утопия, показывается то, к чему приводит реализация утопической идеи [4, с. 78].
Зададимся вопросом, какое именно утопическое устройство или система ценностей критикуется Г. Казаком? Очевидно, такой утопией, не оправдавшей себя, являются идеалы, в соответствии с которыми развивалась европейская цивилизация, увлекаемая «фаустовским духом» на путь технического прогресса.
По мнению некоторых героев, эти представления и составляют суть утопии, заведшей человечество на путь гибели. Западная цивилизация рассматривается как тупиковый путь развития человечества, она имеет демонические черты. Технократическая революция, по мнению мастера Магуса, обострила «инстинкт истребления»: «люди пытались перехитрить законы природы» [7, с. 129]. Европейцы, по его мнению, «жалкие, беснующиеся существа, последние отпрыски двух тысячелетий западной культуры» [7, с. 130]. «Нам внушали, что человек – венец творения, а он – навозная куча, вот кто», – восклицает одна из теней [7, с. 200].
Фаустовский перевод фразы Библии «вначале было дело» объявляется кощунственным, так как «дело», любая человеческая деятельность по усовершенствованию мира имеет печальные последствия. Утопичной оказывается и вера в личное бессмертие. Последние главы романа наполнены аллюзиями на «Божественную комедию» Данте. Главный герой сравнивает напрямую себя с Данте, достигшем, правда, только «промежуточного» царства, из которого один путь – тропой демонов – в забвение. Тут мы встречаем принципиальные расхождения между картиной Ада, созданной Данте, и «промежуточным царством» Г. Казака. Во-первых, в мире Г. Казака преступники и жертвы находятся в одном, «промежуточном» царстве, а не разделены по областям рая, чистилища и ада. Во-вторых, У Данте каждый из встреченных героев обладает яркой индивидуальностью и ясной памятью. У Казака ясно говорится о том, что смерть стирает личную память, оставляя обитателю этого царства лишь мутные воспоминания о последней минуте жизни, это мифологический мотив, соотносимый с локализацией города за рекой, напрямую не названной, но явно соотносимой с Летой, но прямых аналогий с «Божественной комедией» здесь нет, так как Данте помещает Лету в Земном Раю, а у Казака она протекает в местности, больше похожей на ад [14, с. 485]. В последних главах герой наблюдает как вереницы «теней без лиц» устремляются в небытие. Кажется, что для достижения гармонии мира отпрыски западной цивилизации должны исчезнуть, уйдя по тропе демонов.
Отметим и основные точки расхождения романа немецкого автора с классической «антиутопией». Одной из важнейших черт антиутопии, которую представляется возможным выделить, является конфликт между героем и тоталитарным государством [15, с. 47–48]. Прежде всего, следует сказать об особом положении главного героя Казака.
Тоталитарное общество стремится подавить любую попытку личности проявить себя: герой Оруэлла боится, что его заметят за ведением дневника, Д-503 фиксирует свои переживания лишь как вехи ужасной болезни под названием «душа». Положение героя Казака качественно другое. Его приглашают в мир мертвых в качестве хрониста, Роберту предлагается фиксировать все то, что вызывает его удивление и давать увиденному интерпретацию. Если герой романа «1984» пишет при полном запрете писать, то хронист Линдхоф при отсутствии такого запрета просто не может писать, его не удовлетворяет ни один из вариантов написанного. В конце мы видим лишь фрагменты этой хроники.
Мир, описываемый в классической антиутопии, замкнут, он не терпит взгляда извне и уничтожает непокорных, у Г. Казака мы встречаем другую ситуацию: префектура города мертвых приглашает чужака, «неверующего», как его потом называют, для написания хроники, им важен глаз стороннего наблюдателя, а цель создания такой хроники состоит в том, чтобы спасти историю города от забвения. Для сравнения не стоит забывать, как поступали с историческими документами в романе Оруэлла «1948». В романе Г. Казака, напротив, главная инстанция – городской Архив, где и работает Линдхоф, а его туда приглашают на роль «хранителя». Помимо этого, герою отведена мессианская роль: он убеждает умерших солдат вернуться назад, за реку и увещевать живущих: «Как духи являйтесь им в сновидениях, во сне, в этом состоянии, которое так сходно с вашим. Предостерегайте их, напоминайте о себе и, если нужно, мучайте их. У вас в руках ключ суда. Настоящее вашей смерти могло бы спасти будущее их жизни» [7, с. 241]. Слово Линдхофа, подобно слову древнего жреца, обладает материальной силой, по окончании его речи «…могучие колонны казарм зашатались, точно сотрясаемые подземными толчками» [7, с. 241]. Вернувшийся в мир живых Роберт становится Робертом-Странствующим, к которому тянутся люди.
По мнению некоторых исследователей, сближающих антиутопию с жанром притчи, существенной чертой обеих жанров является «этический выбор героя» по отношению к тоталитарному государству [16, с. 171]. Если совершение такого выбора является одним из поворотных пунктов в романе Замятина, то герой Казака как раз, напротив, такого выбора не совершает: в нем нет необходимости, как не является он ни бунтарем, ни «диссидентом». Его задача, как у Данте, – созерцать и сказать об увиденном. Таким образом, отметим, в романе Казака отсутствует существенная для жанра черта: конфликт личности и государства.
Однако и роман Замятина повествует не только о бунте против тоталитарного социума, это произведение об открытии героем своего «я» и экзистенциальных проблем с этим связанных: любви, смерти, существования души. Герой ощущает болезненную раздвоенность, присутствие пугающей «дикости», «хаоса» внутри себя, и для автора, скорее, важнее этот внутренний разлад, трагедия, ведь «я» Д-503 находится между двумя «мы» – сторонниками системы Благодетеля и его противниками – Мефи.
Трагедия Роберта Линдхофа заключается совершенно в другом. В основе сюжета романа лежит миф о путешествии героя в страну мертвых, в частности, миф об Орфее и Эвридике. В городе мертвых он встречает свою возлюбленную, Анну, которую хочет увести с собой назад. Трагедия героя – в несоответствии личных желаний и предназначения человека, предначертанного ему вечностью. Анна в итоге не покидает города мертвых, а становится хранительницей порога, теряя свои человеческие черты и превращаясь в мифологическую фигуру: у ее ног берет начало река, отделяющая мир живых от мира мертвых.
Выходя за границы жанра романа-антиутопии, Г. Казак претендует на создание сложной, наполненной мифологическими символами картины мира, снимается конфликт человека и социума, а сам универсум, преодолев дуальность, свойственную антиутопии, оказывается чрезвычайно сложным. Если в романе Замятина присутствует «обозримое» двоемирие (мир по эту и ту сторону Зеленой Стены), то картина вселенной у Казака не до конца прояснена, хоть и понятно, что в ней фигурируют, как минимум, несколько миров: мир живых, «промежуточный мир», неизвестный мир, куда устремляются тени по тропе демонов, и, наконец, мир «горного замка». О последнем стоит сказать отдельно. В конце романа оказывается, что далеко не все смертные уходят в забвение и небытие. Говорится о «горном замке», в котором находятся тридцать три хранителя мира, защищающего его от полного разрушения, представители как западной, так и восточной культур: Сервантес, Шекспир, Данте и пр. Образ Замка восходит к таковому, описанному Данте в четвертой песне, помещенному автором в Лимб. На символическом уровне разрушению в романе Г. Казака противостоит созидание, забвению, уходу в небытие – сохранение памяти о прошлом в Архиве.
Итак, подведем итоги сказанного. Отталкиваясь от концепции, упомянутой нами ранее, романа-антиутопии как жанрового гибрида, отметим еще раз сложность определения жанровой константы. Однако, что касается романа Г. Казака, то перед нами текст с явными чертами антиутопии, текст философский, выходящий, однако, за пределы этого жанра и стремящийся к аллегорико-символическому обобщению мировой истории, сохраненной в Архиве. И, исходя из этого, Архив представляет собой попытку спасти гуманитарное наследие человечества, возможно, само человечество как вид. «Выход» за пределы жанра обусловлен отсутствием одной важной жанровообразующей черты – конфликта тоталитарного государства и личности.
Мифологемы рая, грехопадения, «города мертвых» выводят оба романа на уровень притчи, широкого философского обобщения, заставляют уточнить тезис о «злободневности» антиутопии. Но роль мифологем у Казака и Замятина разная. Если в романе Замятина мы имеем дело с травестией библейского мифа о грехопадении, изгнании из рая, то мифологические мотивы у Казака имеют иную роль: с помощью нее автор стремится к созданию, пусть не до конца проясненной, картины мира.
1. Yur'eva L. M. Russkaya antiutopiya v kontekste mirovoy literatury. M.: IMLI RAN, 2005.
2. Koz'mina E.Yu. Poetika romana-antiutopii (na materiale russkoy literatury XX-go veka). M.: RGGU, 2005.
3. Kovtun E.N. Poetika neobychnogo: hudozhestvennye miry fantastiki, volshebnoy skazki, utopii, pritchi, mifa. (na materiale evropeyskoy literatury pervoy poloviny XX veka). M.: Izd-vo MGU, 1999.
4. Morson G.S. The Boundaries of Genre. Dostoevsky’s Diary of a Writer and the Traditions of Literary Utopia. Auston: University of Texas Press, 1991.
5. Kolomiyceva E. Yu. K voprosu o zhanrovom statuse literatury-antiutopii. Tvorcheskoe nasledie E. Zamyatina: vzglyad iz segodnya. Nauchnye doklady, stat'i, ocherki, zametki, tezisy. Kn. IX. Tambov, 2000.
6. Gal'ceva R., Rodnyanskaya R. Pomeha - chelovek. Opyt veka v zerkale antiutopi. Novyy mir. - 1988. - №12.
7. Kazak G. Gorod za rekoy. Geliopolis: Per. s nem. Sost. Arhipova Yu. I. M.: Progress, 1992.
8. Zamyatin E. I. Izbrannoe. M.: Pravda, 1989.
9. Propp V. Ya. Istoricheskie korni volshebnoy skazki. SPb.: Izdatel'stvo S.-Peterburgskogo universiteta, 1996.
10. Lazarenko O. V. Russkaya literaturnaya antiutopiya 1900-h - pervoy poloviny 1930-h: problemy zhanra. Voronezh, 1997.
11. Zverev A. M. Lekcii. Stat'i. M.: RGGU.
12. Kol'cova N. «My» E. Zamyatina kak neomifologicheskiy roman. M., 1998.
13. Russkaya germanistika. Ezhegodnik rossiyskogo soyuza germanistov. Nal'chik, 2008.
14. Dante A. Sobranie sochineniy: v 2 t. T.1: Bozhestvennaya komediya: poema. Per. s ital., vstup. st. i komment. M. Lozinskogo. M.: Literatura; Veche, 2001.
15. Lanin B. A., Borishanskaya M. M. Russkaya antiutopiya XX veka. M.: Onega, 1994.
16. Anastas'ev N. A. Fenomen Nabokova. M.: 1992.